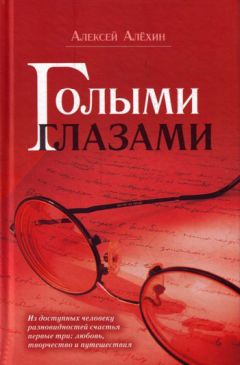Каждое утро я здороваюсь с господином Гёте
у городской водокачки.
Кроме памятников, в городе этом знакомых нет у меня.
Опера. Университетские велосипеды. У немок
веселые стриженые затылки.
Собеседник случайный.
Поглощает безбрежное блюдо вареных овощей: цветная
капуста, кольраби, морковь, картофелина, лук-порей.
С ломтем нежной свинины.
Моску, это… ах, да, Россия.
Жаль, что кончается рано.
В парижских кафе только еще заказали первые рюмки
пастиса, наверно.
А тут в восемь вечера на улицах ни души.
Среднеевропейское время носят коротко здесь, по-немецки.
В гостиничном холле бородатый очкарик-рерихолюб
из Петербурга, в стоптанных туфлях.
Неофитов созвал на вечерю.
Что-то вещает, воздевая руки и глаза к пористому потолку,
поглощающему его откровения.
Слушатели, обутые в добротную немецкую обувь,
согласно кивают.
На площади пусто.
Что-то с погодой в Европе.
Вот и в Лейпциге снег.
Недоуменно ложится в кругах фонарей
на разноцветные клумбы.
Заставляя запоздавших прохожих прятаться
в мокрых зонтах.
Только желтый чудесный трамвайчик приветливо катит,
совершенно пустой, как игрушка.
Но мне на нем некуда ехать.
Снег.
Чугунная парочка, Фауст и Мефистофель, укрылась
под сводом пассажа.
Бронзовый Гёте все любуется водокачкой,
где когда-то лилась из каменной рыбьей пасти вода.
Мокнет Бах, прислушиваясь к молчащему в темной кирхе
органу.
И у Лейбница подрастает горка снега
на позеленевших страницах развернутой книги.
Лейпциг
Март 1997Воспоминание о восточном гостеприимстве
Для приезжающих в сатрапию гонцов и порученцев средней руки местный властитель выстроил особую гостиницу. Сияющую изнутри мрамором, медными светильниками и лицами чинных администраторов.
Секрет ее сооружения был секретом архитектурным.
Снаружи здание гляделось в европейском современном стиле, но внутри перетекало в старинный особняк, который и позволил выдать по сметам постройку за реконструкцию.
Благодаря такому симбиозу здешний обитатель внезапно из узкого и строгого, похожего на корабельный коридора с рядами латунных ручек попадал в лепной дворянский зал с полукруглыми окнами, а затем обратно в американизированный бар на нижней палубе…
Привилегированные люди Орды имели сюда специальные пропуска и наведывались вечерами – изредка, не злоупотребляя.
В основном же чудесный этот бар с громадной, в целый квартал, обитой кожей стойкой пустовал. Как и вся гостиница.
Алма-Ата
1986Привезший меня громадных размеров казах уведомил, что приходится прямым потомком Чингизхана.
По случаю сельского праздника в чахлом скверике собралось человек десять на деревянных скамейках.
Золотозубая народная певица с маленькими злыми глазами тянула песню, бесконечную, как дорога в степи.
Вдоль главной улицы шеренгой инвалидов на деревяшках выстроились газетные щиты.
Вбок от шоссе, в зеленой раковине аллеи, мелькнули, отразив кусочек голубого неба, прозрачные двери партийного особнячка, вроде входа в Зазеркалье.
Пыльная девочка, спрошенная о дороге, замахала руками сразу во все стороны.
Дымные изгороди, домишки в линялой побелке, пустыри.
Тайный ночной намаз в доме местного кагебешника, оказавшегося моему провожатому младшей родней.
Выпив, хозяин дома хватается за домбру: «Слава Аллаху, я теперь майор!»
Стокилограммовый опухший казах кивает в такт струнам тяжелой головой с опущенными веками, как пьяный Будда.
На полу под окном борется со сном сынишка хозяина в большой папахе.
Подперев рукой голову, он слушает взрослых, вряд ли понимая русскую речь, и шевелит грязными пальцами маленьких босых ног.
Казахстан
Лето 1990Двойной потрет на фоне собора
зеленовато подсвеченный
Кёльнский собор вздымался среди воздушных пузырьков
в ночное небо
вроде аквариумного замка
возле
я увидел себя и Рейна
двух рыбок
стоящих рядом на хвостах:
одну большую и жирную медленно шевелящую плавниками
другую тощую с острым клювом
в очках
Кёльн
19 ноября 1997Я посетил тебя вновь – в час заката.
Археология развалин незаметно переходила в жилье.
Повсюду появились роскошные вина, зато исчез сыр.
Тщедушный человечек в сморщенном пиджаке оказывался могущественным теневиком.
Всякий встречный с третьего слова принимался говорить о долларах.
В квартирах чуть потускнела позолота.
Все вздорожало, включая похороны – теперь перевозка покойника обходилась три рубля за километр.
Аэрофлотовская кассирша в своем бюро вела беседу разом с тремя посетителями, что-то мурлыкала в телефон, рылась в розовой куче десятирублевок, пробовала и швыряла шариковые ручки и вдруг запела низким приятным голосом.
Ближе к вечеру толпа на главном проспекте стала гуще и беззаботней.
Женщина в драгоценных шелковых лохмотьях вышла из автомобиля и направилась к стеклянному входу в ресторан.
За высоким мраморным столиком забегаловки в одиночестве беседовали двое молодых людей, угощаясь инжиром с блюда.
Повсюду шуршали деньги.
Фуникулер возносил к уже зажегшимся наверху огонькам и спускал нагулявшихся вниз, к повседневным заботам.
В окне проплывающего мимо лепного дома застыла декольтированная старуха с малиновым овалом помады на пудреном меловом лице и неестественно черными волосами.
Она казалась большой фарфоровой куклой в витрине.
И не понять было, сожалеет ли она об уходящем времени.
Август 1988– Сыктыв-карр! Сыктыв-кар-рр!
А еще чуть подальше:
– Печор-р-ра!
Теперь я знаю, откуда прилетают к нам на зиму эти невзрачные серые птицы.
Они прилетают из окруженного болотами и рассованными по лесам лагерями вечноссыльного города, упирающегося Коммунистическим проспектом в низенький вокзал с единственной круглой башенкой под непомерным острым шпилем – как воспоминание о безнадежно далекой Петропавловской игле.
Туда добираешься черт знает сколько времени.
Давно миновал запавший в душу вокзал в Ярославле, выстроенный в том приподнятом южном стиле, с аркадами и гроздьями молочных фонарей, что так любили в сталинские времена и что всего более подходит для торжественных встреч под оркестр.
Поезд, спотыкаясь, взбирался на мосты, переваливал через речки, обгонял мутноглазые короткие электрички.
Окрестности всё мельчали, теряя краски.
А дорога все длилась.
К счастью, я путешествовал не один.
Попутчик мой был эстонец в самом лучшем смысле слова: интеллигентный, тихий и болезненный.
По утрам он негромко беседовал сам с собой, шуршал бумажным пакетом и грыз припасенные из дому сухари.
Ссыльный город походил на заброшенную новостройку сразу и 30-х, и 50-х, и 70-х годов.
Правда, и тут уже попадались на глаза вывески вроде «Парикмахерские услуги для собак».
В ресторане «Центральный» крепкие молодые люди всякий вечер заказывали «Мурку».
В витринах краеведческого музея лежали деревянные рыболовные крючки и обломки деревянного бога.
Над ними парило на ниточке хищное чучело птицы с воблой в когтях, изображавшей пойманную рыбу.
Местная культура усердно замешивалась на этнографии, и в какой-то момент мне тоже захотелось стать классиком коми литературы.
Но меня не устраивал здешний быт.
Помимо того и этого света есть, вероятно, области, не проходящие ни по тому, ни по другому ведомству, о которых Творец просто позабыл и оставил, как нерадивый школьник, обширные белые проплешины на заштрихованной контурной карте.
И потому при их посещении всего более запоминается дорога – туда и, если повезет, обратно.
…В соседних купе веселились изъеденные гормонами долговязые юные баскетболистки, ехавшие повидать свет на соревнования в Нижнекамск – не то в Нижнехамск.
Я вышел покурить на площадку.
«Вельск. Стоянка 10 минут», – объявили по громкой связи.
Во мраке желтели огоньки. Какие-то полукруглые металлические лабазы проступали в лохмотьях метели.
– Ну, это вряд ли центр мироздания, – пробормотал я обычную пошлую присказку.
– Что вы! – отозвался у меня из-за спины молчавший до того в дыму курильщик. – Это у них и есть райцентр.
Сыктывкар
Октябрь – ноябрь 1995