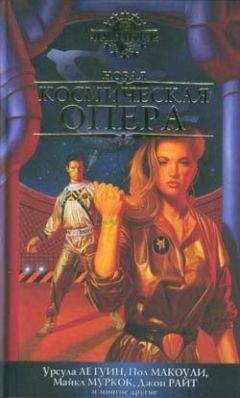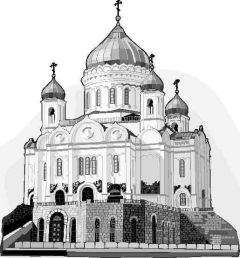А там совсем было пусто. Только два человека подошли к о. Александру под благословение – седобородый и важный старик Пчельников, всю жизнь латавший сапоги и подшивавший валенки жителям Сотникова, и младший его сын, милый Кирюша, в местной больнице трудившийся санитаром и мечтавший выучится на доктора. Отец Александр возложил руку на голову юноше:
– Когда покинешь Сотников, как Ломоносов – Холмогоры?
Кирюша вспыхнул.
– Я, батюшка, хоть завтра. Папа не хочет.
Старик Пчельников погрозил сыну корявым пальцем.
– Куды тебе несет? Его, батюшка, Сигизмун Львович, дохтур, с толку сбивает. Двигай, говорит, в Москву, в ниверситет, хватит-де тебе горшки таскать. А я? С кем мне тут век доживать?
– Не верю я, Иван Кондратьич, что сыну своему желаешь ты участь раба нерадивого. У него талант от Господа – пусть трудится, пусть приумножает. Тебя же и лечить будет. Езжай, Кирилл, в Москву, учись. Благословляю.
И мать Агния, совсем согбенная, опираясь на клюку, приблизилась к нему.
– Благослови, – трудно дыша, молвила она.
Склонившись, он поцеловал ее в голову, покрытую черным апостольником.
– Много у нас нынче в храме народа, мать Агния, – невесело усмехнулся о. Александр.
– А ты не считай. Ты ступай в алтарь и молись. А там и народ… – кашель потряс ее согнутое в три погибели тело, и она едва смогла произнести последнее слово, – …придет.
Освещенный утренним солнцем, всевидящими очами глядел вниз, на церковь, почти пустую, Христос-Вседержитель. И что прозревал милосердный Господь в горстке людей, собравшихся ныне, дабы принести бескровную жертву, а затем приобщиться хлебом и вином, таинственно преобразившимися в Его плоть и кровь? Смуту и горечь видел Он в сердце старика Пчельникова, радость, робость и жалость – в сердце сына; видел мать Агнию, из последних сил собиравшуюся читать следованную Псалтирь, и уже приготовлял светлого ангела в совсем скором времени принять, спеленать и, как долгожданного младенца, доставить в райские жилища бессмертную и чистую ее душу; видел старинного друга и сотрапезника алтарницы и псаломщицы, Григория Федоровича Лаптева, регента, тоже состарившегося, но еще довольно бодрого и крепко держащего бразды правления левым клиросом, где в ожидании взмаха его руки тихонько покашливал крошечный хор – две Бог знает сколько лет певшие в церкви женщины, у которых ввиду наступившей старости некогда звучные голоса давно уже дребезжали, наподобие расстроенных струн, и любимица Григория Федоровича, Аня Кудинова, потерявшая серебряный свой альт, но взамен его получившая в дар небесной красоты низкое и сильное сопрано; видел священника, будто пожаром, охваченного тревогой и поднимающего вопрошающий взор к церковным небесам. Оробевшее дитя, неужто он устрашился всего того, что сам же прорек в поэме «Христос и Россия»? Отчего же мятется? Отчего не перестает вопрошать в душе своей: что будет с Церковью? с храмом Никольским, у алтаря которого священнодействует третье поколение Боголюбовых? с его тремя дочками и особенно – с горбатенькой Ксюшей? с жителями града сего, а также всей России жителями, от мала до велика? И творение его дорогое, поэма «Христос и Россия», которой намеревался он потрясти сердца, – неужто обречена на забвение? Он уже эпитафию ей слагает: истлеет бумага, угаснут слова, и труд мой покроет могильная мгла. Неразумный! Или не знает, что Бог – верный хранитель всякой правды? И что Ему посвященное не умрет во веки? И не в пример ли, не в назидание ли о. Александру изображенные в парусах церкви, под серафимами и архангелами, евангелисты: Иоанн Богослов с орлом, яко прозревающий с высоты поднебесной всю землю, Лука с тельцом, яко приуготовляющий жертву на алтарь Иеговы, Марк со львом, яко обладающий мощью непобедимой, и Матфей с существом человеческого образа и подобия, яко пришедый к нам с повестью о земных днях, крестной смерти и воскресении Спасителя? Разве томило их сомнение о судьбе записанной ими Благой Вести? Разве пытались они заглянуть через десятилетия и века, дабы узнать, не пропал ли втуне их добросовестный труд? И Лука разве не для Феофила ли только составил свое повествование, вовсе не думая о том, что придет время – и не останется на земле племени и народа, которому не проповедано будет Слово Божие во всей его полноте и славе? Веруй и трудись; трудись и веруй – остальное не твоя забота.
– Ты, батюшка, небось в Москве крепко задумался, – укорила о. Александра мать Агния. – Сам не свой. Отец Петр уже в алтаре. Иди, начинай.
– Тут задумаешься, – пробормотал о. Александр и поднялся на солею, где трижды перекрестился перед царскими вратами и трижды склонился в глубоком поясном поклоне. – Пречистому Твоему образу покланяемся, Благий… – молился он далее у иконы Спасителя, затем молился и кланялся образу Пресвятой Богородицы и просил у Создателя укрепления немощных своих сил, чтобы ему, недостойному иерею, с трепетом верующего сердца совершить бескровное священнодействие. – Вниду в дом Твой, – войдя в алтарь южной дверью и крем глаза увидев вставшего возле жертвенника о. Петра, негромко читал он пятый псалом, – поклонюся ко храму святому Твоему в страсе Твоем…
И целовал Крест, Евангелие и престол, и в эти великие и страшные минуты прикосновения к святыне, против желания и воли не мог избежать воспоминаний о Москве, о. Сергии, пламенных его единомышленниках и как бы уличал сам себя, вопрошая: отчего же, отче, согласившись с ними, ты ныне по-прежнему глаголешь «вниду», а не «войду», «поклонюся», а не «поклонюсь», «страсе», а не «страхе»? Не оттого ли, смутившись душой, робеешь поднять от престола глаза и встретиться с прямым, твердым взглядом брата? Он наконец собрался с духом и подошел к о. Петру. Тот обнял его.
– Саша, милый…
– Брат, – заторопился о. Александр, стараясь смотреть о. Петру прямо в глаза, – я тебе должен сказать…
– Потом, – остановил его о. Петр. – И мне надо тебе о многом сказать. Но сначала отслужим. Время такое, что нам с тобой, может, у алтаря никогда больше не придется вместе молиться. Облачайся.
И о. Александр принялся облачаться: сначала в подризник, пока еще с холодком в сердце шепча про себя: «Возрадуется душа моя о Господе, облечé бо мя в ризу спасения…», затем возложил на себя епитрахиль, натянул и завязал поручи (правую зашнуровал и завязал ему о. Петр) и надел фелонь, проговорив уже почти в полный голос: «Священницы Твои, Господи, облекутся в правду, и преподобнии Твои радостию возрадуются всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь». И Симеон преподобный, чьи дорогие косточки были все-таки тайно похищены однажды в ночь из Шатрова и увезены неведомо куда: то ли в Москву, то ли в Питер, и Сергий преподобный, и Нил преподобный, и весь сонм святых, в Боге просиявших, велию радостью радуются сейчас на Небесах, глядя на священников Боголюбовых, в скромном алтаре Никольской церкви приготовляющихся к тайнодействию. И ангелов Своих уже послал Господь – в помощь незримую, но несомненную. В груди потеплело. Боже, изглади из памяти моей все! Пресвятая Богородица, покровом Своим закрой для меня весь мир вокруг! Преподобный отче Симеоне, сподоби и меня, грешного, узреть хотя бы слабый отблеск того, что некогда увидел ты и застыл, и потерял дар речи от невыразимого потрясения!
– Благослови, владыко, – тихо промолвил о. Петр.
– Благословен Бог наш, – со всей доступной ему сейчас силой произнес о. Александр, – всегда, ныне и присно, и во веки веков!
– Аминь, – твердо сказал о. Петр, и мать Агния тотчас приступила к чтению псалмов и молитв третьего и четвертого часа.
– Аминь, – начала она, и священникам в алтаре, и Григорию Федоровичу Лаптеву, регенту, и горстке прихожан (к отцу и сыну Пчельниковым прибавилось еще человек пять-шесть) в голосе ее вдруг послышался прежний трубный звук, от которого не так еще давно у всех тревожно и радостно обмирало сердце. Увы: то был миг краткий, отзвук былой мощи, непостижимо умещавшейся в малом и слабом ее теле и по тайной мысли о. Петра сообщавшей ей нечто общее со стражем рая – архангелом Гавриилом. – Слава… Тебе… – с трудом промолвила мать Агния, перемогая душивший ее кашель, – Боже наш… слава Тебе. Тут она зашлась в cухом, терзающем грудь кашле и, левой рукой прижимая к губам платок, правой стукнула о каменный пол церкви своей клюкой – раз и еще раз. С левого клироса спустился к ней Лаптев.
– Мать Агния! Худо тебе?!
– Почитай… покамест… отдышусь…
Теперь уже не к губам – к глазам поднесла она платок, чтобы утереть катящиеся слезы. Но плакала вовсе не из жалости к себе, к невозвратимо уходящей жизни, к меркнущему белому свету, за долгие ее земные годы явившему ей столько красоты! И не от сознания, что близок уже час вечного прощания с милыми людьми – с тем же Григорием Федоровичем, с которым после обедни так славно было посудачить о житье-бытье и вволю попить чайку с сахарком вприкуску. Давно, правда, не по зубам стал ей сахарок, и Григорий Федорович, добрая душа, колол ей его серебряными щипчиками на мелкие кусочки. Да и где он нынче, сахар-то? И чай крупного листа, из Индии привезенный, с тонким и терпким запахом – где он? Что плакать о том, чего не вернешь! И лить слезы об этой жизни, когда за гробом начнется для нее иная, с Господом и всеми святыми Его! Там Христос, как родную, встретит ее и речет: знаю, скорбела ты обо Мне, когда видела Меня в вашем храме в рабском виде, с терновым венцом на голове. Скорбела, Господи! – так она скажет. Мне эти иглы будто сердце прошили. И Он ответит: не будешь печалиться отныне и во веки веков. И как Я воскрес, воскреснут и все верующие в Меня. И ты воскреснешь. И узрят новое небо, и новую землю, и град святой Иерусалим, сошедший с неба на холмы свои. И в нем, как в скинии, Бог будет обитать с верными своими. И рукой Моей утру Я слезы твоих очей, Агния. Ибо в мире Моем не будет ни плача, ни вопля, ни болезней; и самой смерти не будет, которую запечатаю Я печатью вечной.