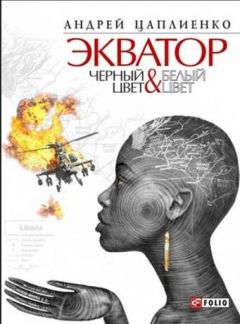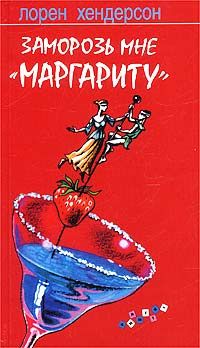И тогда я решил, что так это оставлять нельзя.
Сначала я решил, что убью Олежека.
Чтоб знал.
Чтоб знал, как сперва обещать — а потом вот так. Ведь это все Олежек! Если бы не он — у меня в сумке сейчас бы лежал Шут — для Сашка.
Только как его убить? Как вообще — убивают?
Я ходил, думал-думал — и никак не мог представить, что я убиваю Олежека.
А потом вдруг мне представилось, как я рассказываю это Сашку, буднично так, спокойно — вот, убил Олежека за то, что он продал Шута.
Вот только Шута-то все равно нет.
Хоть убей его — хоть нет.
И никому-то про Шута не расскажешь — ведь Сашку вовсе не обязательно знать, что никакого Шута уже нет в театре. У нее и так операция скоро.
Когда долго кому-то чего-то не рассказываешь, начинает казаться, что никому до тебя и дела нет, что это они даже специально все так устроили, чтоб ты боялся им все рассказать.
Приближался Новый год. Мама ездила в какие-то магазины и приезжала со странным лицом, говорила «Ох, ног больше не таскаю!». Папа готовился к елкам — и все в театре готовились: и Поп Гапон, и Тимохин, и даже старенький Султанов.
Елки — это новогодняя работа, и перед праздниками мне кажется, что елок в Москве больше, чем детей.
Папа учил текст Деда Мороза, и по всей квартире валялись листы со сценариями. А мама вынимала с антресолей старинный чемодан с кожаными фигурными нашлепками на углах. Я, конечно, знал, что в чемодане: темно-синяя шуба до пят, расшитая серебряными снежинками, такая же шапка и белая борода.
Мама будет долго чистить шубу, стирать бороду и ругаться на папу: «Ты такой же ленивый, как твоя мать! Хоть от грима отмыл бы год назад, все слиплось! Сейчас пошлю тебя к черту с твоей бородой, будешь знать!» Потом она, конечно, никуда его не пошлет, а будет расчесывать бороду, чтоб стала пушистая.
Ну а к Новому году папа потеряет голос, потому что будет «халтурить», «морозить» по школам и детским садам и неправильно говорить, не как их учили в театральном институте, и сорвет связки, а мама презрительно скажет: «Актер Актерыч, халтурщик несчастный». А он будет только хрипеть.
«Молчи уж», — махнет рукой она.
У всех были елки. Или подарки. И даже круглые лампы в метро казались огромными елочными игрушками. У всех в голове были одни только праздники.
А у меня был только Шут.
В конце концов я понял, что если быстро, очень быстро не расскажу кому-нибудь про Шута, то лопну как елочный шар из тонкого стекла, который уронили на кафельный пол — брызну во все стороны осколками, и все тут.
— Я могу его украсть, — говорил я Сэму. И плевать мне было, что рядом сидит Филипп. — Найду у Олежека адрес коллекционера и украду — вот это будет правильно. Или еще что-нибудь. Вроде этого.
Сэм молча смотрел на меня — просто молча. И я чувствовал, как внутри я становлюсь все меньше и меньше.
Но я не хотел становиться меньше. Я злился. На себя и на Сэма. Я уже собрался выкрикнуть ему обидное: «Тебе хорошо, ты такой весь хороший. Ты вообще послезавтра уедешь, и ничего-то ты не понимаешь!»
Я открыл было рот, чтобы выпалить это, чтобы увидеть, как, может быть, от обиды изменится его лицо.
А вместо этого почему-то сказал:
— Ну не могу же я сделать другого Шута — для Сашка! Нового. Такого же.
— Нет? — только и сказал Сэм. — Нет?
Мне стало очень жарко. А потом очень холодно. Потому что я испугался.
И потому что оказалось — решиться сломать куклу совсем не так страшно, как решиться сделать ее самому. Поэтому я в ужасе пробормотал:
— Ну даже пусть… но колпак-то… Колпак я ни за что не сошью сам…
* * *
Сэм уехал во время вечернего спектакля.
— Привет! — сказал он и улыбнулся так, что на щеке появилась ямочка. И поднял руку — как всегда. Только то, что он вез за собой чемодан, было необычным.
— Чегой-то так мало вещей? — изумилась Сашок, потрогав новенькую бирку с именем Сэма — его и признать-то было невозможно, до того оно казалось непохожим на нашу настоящую жизнь.
Да, и адрес — на бирке значился чужой адрес, по-чужому написанный, и внизу стояло по-английски «Голландия».
И от этого и чемодан, и все вообще казалось ненастоящим — потому что Сэм-то был все тот же.
Он так же улыбался — бровями, ресницами, иноземными почти скулами и даже мочками аккуратных ушей. Так же небрежно перекидывал длинный белый шарф через плечо.
— А остальное я уже отправил, — объяснил он Сашку.
Потом Сэм пил вместе со всеми чай в гримерке, сбегал к Лёлику и шутил с Мамой Карло, он дождался, пока прозвенит третий звонок и все актеры, схватив кукол с деревянной вешалки, убегут на сцену.
— Ты все-таки сделай его. Ты же решил, — сказал он на прощание.
И обнял меня. И пока я на секунду прикоснулся щекой к его шершавой щеке, я успел услышать — и запомнить надолго — как пахнет щека Сэма: соленым морем и отчего-то дюшесом.
Я не смотрел, как он уходит, увозя за собой темно-синий чемодан, как толстую собаку, — ненавижу смотреть, как люди уходят. Я просто сел на ступеньки железной лесенки, ведущей к Майке и звукорежиссерам, чтобы слышать только музыку со сцены. И старый театр грустно вздохнул, дрогнув под ладонью тонкими перилами.
Курская… Таганская… Павелецкая, — говорила Сашок каждые пять минут, отстукивая пальцем станции метро, мимо которых мог бы сейчас проезжать Сэм.
Мне очень хотелось сказать ей «заткнись», но я не стал. Я бы и сам повторял названия улиц, если бы мог сглотнуть застрявшее на вдохе сердце.
И я представлял, как Сэм будет сидеть в самолете и смотреть, как за окном фиолетовым светится надпись «Moscow», как в свете аэропортовых прожекторов-одуванчиков мельтешат белые мотыльки снега. Как жуками ползают по полю машины с надписями по-русски на белых, будто заснеженных, боках.
А потом он перемахнет леса и реки, и дачи внизу, и много-много городов — побольше и поменьше — и увидит, как на летном поле ползают жуки-машины, на которых, даже в темноте это понятно, написано что-то другими, чужими буквами.
И он отправится дальше, Сэм, и сядет в такси и поедет по ночному городу, а мокрый снег будет превращаться на стекле машины в осенний дождь, и зеленым будут светиться в темноте приборы у таксиста. И тогда Сэм, может быть, прижмется к заплаканному стеклу крутым лбом — как мы с Сашком тогда в метро — и задумается о последнем звонке перед началом спектакля, о корявых руках Лёлика и улыбке Шута, о чашке в горох, в которую в антракте наливают свежезаваренный чай, о суете и даже о Колокольчикове задумается Сэм там, в Голландии.
И обо мне.
Тогда он лежит без дела — он жесткий, твердый и сухой. Одним словом — мертвый. Я беру старый пластилин — разноцветные некрасивые куски и держу их в горячих ладонях. И тогда они оживают, они становятся мягкими и теплыми, они дышат. Они ложатся друг на друга как лепестки, как заплатки, когда ты разглаживаешь и мнешь их пальцами, они уже нежнее шелка. Они уже не жесткие, уродливые куски больше, они превращаются в пластилиновый шар в твоих ладонях, в теплый гладкий шар.
И мне кажется, что я держу в руках всю Землю, все прошлое и будущее, и там, внутри — все те, кто до меня вот так же лепил кукольные головы.
В окно льется свет с улицы — там перекатываются по рельсам и светятся в зимнем темно-синем вечере, как волшебная шкатулка, трамваи. Миллионами лампочек переливаются и искрят предновогодние переулки, и свет праздничных гирлянд затопляет комнату.
А я стою, и в руках у меня — голова. То, что будет головой. Самое важное в кукле.
Мама всегда говорила — у тебя талант, всегда говорила, когда я что-нибудь лепил. Я не знаю, как ты чувствуешь себя, когда талант, я просто держу в руках теплый пластилиновый шар, а на столе лежат старые-старые, желтые уже от времени рисунки, которые отыскал для меня Лёлик в рассохшихся шкафах. С рисунков, пахнущих древними книгами, глядит Шут — в фас и профиль.
В моих руках — гладкий шар, и можно подбрасывать его, жонглировать им, как будто ты в цирке, можно положить его на стол, а можно вылепить голову шута. Пальцы касаются пластилина и знают, чувствуют: нажми — здесь будут глазницы, а здесь — крючковатый нос. Рисунок на столе тягучей музыкой течет в мои ладони, и они повторяют все изгибы шутовского лица: мягко вытягивают нос, легким, движением, будто подрубают маленькое деревце, обозначают надбровные дуги, пальцы выщипывают из пластилина, а потом заглаживают резкие скулы и горбинку носа.
В руках — голова, и угадывается уже кривая шутовская ухмылка, и от этого не по себе.
Теперь — самое трудное. Теперь нужно разрезать пластилиновую голову на половинки, чтобы было легче обклеивать ее бумагой, чтобы получилось папье-маше. Разрезать лицо прямо — сверху донизу, по лбу и носу. Лёлик делает это острой проволокой с палочками-ручками с двух сторон, чтобы удобнее было держать, — «струной», как он говорит. И я, конечно, так же — я не знаю, как по-другому. Лёлик одолжил мне свою струну — «не сломай» сказал он, глянул поверх очков и вдруг улыбнулся, потому что как же ее сломаешь? Там и ломать-то нечего.