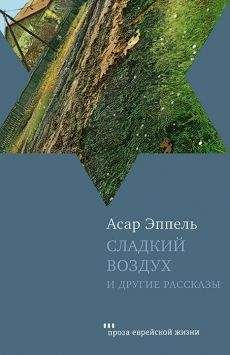Самое, однако, большее, чего кроме прозрачных царапин достигал мальчик — это удаления словно бы накеросиненной, ставшей желтой и полупрозрачной этикетки. Посопротивлявшись, она совлекалась ссученными волокнами наподобие окатышей грязи, недомытой в бане и сдвигаемой в предбаннике со своего места на коже.
Ольга же Семеновна, как сказано, отстирывала пятна любые, а в единственной ее большой и светлой комнате, где стирка производилась, всегда было ярко и чисто. И хотя комнату уставляла богатая гостиничная обстановка, стирка никакого лишнего беспорядка в опрятное жилье не вносила. Цинковый бак, правда, где под крышкой отмачивались подштанники и нательные вещи, стоял все же не в комнате, а в черном углу кухни.
Зато в комнате стояло солнце, а мыльная пена своим чистым перламутром и само белье, тяжело белевшее на серой гофрированной доске, радостного свету добавляли. Вода никуда не подтекала, что, вероятно, и было главной причиной ощущения опрятности и аккуратности — ведь, если стирают, тут и брызги всюду, и пол измочился, и мыло, улетев из рук, облепляется сухим сором, оставив на полу тусклый полупузырь, сохнущий хуже, чем просто вода. И пол вроде взбух от проливаемой мути.
Нет же! Пол был крашеный, ровный, в окно светило солнце, белье белело, пена шипя лопалась и ужималась, руки Ольги Семеновны, дочиста отстиранные, делались размокшими и неправдоподобно белыми, а ультрамарин синьки в здоровенной бутыли совершал свое дело и всю эту белизну понуждал сиять.
Такою казалась комната и мальчику с девочкой, очень часто приходившим в гости. Иногда почти каждый день. Дома были не против этих посещений — Ольгу Семеновну знали хорошо. Она веселая, молодая, красивая, но — что делать! — глупая. Берет стирать, хотя могла бы, раз война, пороть парашюты или пришивать пуговицы к бумажкам. Правда, у нее завелся этот деревенский, Василий Иванович — тормози лаптёй! Она, дура, пустила его в дом, так теперь и живет с ним. Нет! Зачем говорить! Она не гулящая, но у него же осталась Нюра с ребенком, а эта глухая Оля, она честная, но не надо было пускать военного — теперь он решил, что он у себя дома… Так дети, чем ходить черт его маму ведает куда, пусть ходят к ней.
— Ну, чем кормила вас эта Оля?
— Жареной картошкой.
— Что, на сале?
— Нет, на лярде.
— Разве он ей не привез подсолнечного масла?
— Ну на лярде же вкусно!
— Она стирает, а вы сидите?
Они действительно сидят, но она не все время стирает. Она иногда задумчиво на них глядит, однако не унывает, и в ней вовсе нет тоски, а подозрительность, отрицание и спасительное недоверие ей вообще не свойственны.
Еще она вместо «лэ» приятно произносит «рэ» и не очень хорошо слышит. Вернее, одним ухом совсем, а другим — не очень хорошо. Ее самоё забавляет и собственная тугоухость, и невыговариваемое «лэ».
— Мои девочки рюбири, когда я про это анекдот рассказывара. Вы ешьте и тоже срушайте. Вот быри у одной барыни три дочки: Рира, Рора и Рара (Лиля, Лора и Лара). Все они вместо «рэ» говорири «рэ», и поэтому никто не брар их замуж. Вот приехар к ним в городочек новый черовек, увидар в окне Риру (Лилю) и решир посвататься. А мама верера им морчать, чтоб не усрышар, как они вместо «рэ» говорят «рэ».
Вот он пришер и сидит, а они тоже сидят. Он курит и морчит, потому что смутирся, а они морчат, знаете почему. А у него пепер упар на ковер. Тут Рира, к которой он сватарся, и сказара:
— Каварер-каварер, поровик прогорер!
А средняя как пихнет ее:
— Рира-Рира, чего тебе мама говорира, чтоб ты сидера и морчара, будто деро не твое!
А мрадшая обрадоварась, что не она виновата, и говорит:
— Срава Богу, проморчара, не сказара ничего!
И весь секрет раскрыри! Хороший анекдот, правда? Мои девочки очень смеярись, когда я рассказывара…
Девочки ее спят между тем в интернате для детей бывших ответработников в городе Улан-Баторе Хото, в стране Монголии, марки которой хоть не треугольные и ромбом, как у Тувы, но тоже красивые.
Девочки ее сейчас в другой какой-то, не в этой, где она сама, комнате, хотя должны быть в этой, а лежат в другой, и очень далеко. Так далеко и недоступно, что лучше не думать — жуть берет. И когда она с ними увидится непонятно. На третье заявление даже ответа не дали…
Девочки ее сейчас лежат в другой комнате и спят. В комнате той, наверно, три кровати, и они на этих кроватях спят. Одна девочка некрасивая, другая — красивая, но с монгольскими чертами, а третья слабенькая такая и больная, и она, наверно, скоро умрет.
Они там, она здесь. Почему?
Потому что, когда она была девушка, то из Полесья (а там все не похожи на московских или украинских, веселые все и открытые, и работы никакой не боятся — хоть редьку сажать, хоть деготь сидеть, хоть на людей стирать), вот из этого-то Полесья поехала она по призыву поселяться возле Амура, на рыбалке у реки и по дороге, на митинге, встретилась с большим человеком. Ну он вскоре семью бросил, они поженились, и девочки пошли. А потом нарком заболел, и надо было срочно ехать лечиться в Москву, а детей оставили его родственникам. Болел он долго, в правительственной больнице, а ей дали эту комнату и обстановку: кровать никелированную — тут вот только шарика не хватает, — трельяж, тумбочки, комод, одеяла, этажерку — всё, как в гостинице, чтоб она пока временно жила. И стал ее муж умирать. А пока умирал, в Монголии против него что-то началось, и попал он тогда в Москве под следствие, но месяц никак не мог очнуться, а его родственники в Монголии как раз отправились кочевать и девочек в Улан-Баторе Хото в приют поместили. Но тут муж умер и всё следствие закрыли. А девочки теперь как иностранные подданные остались — ведь очень скоро война началась. А там старая семья не хочет, кажется, детей отдавать. А если отдадут, то кто привезет, ехать же два месяца на поезде? А если разрешат и она поедет сама, то два — туда, два — обратно. С детьми же. И война идет, и вот вся мебель не ее, а казенная, а тут еще с Василием Ивановичем познакомились.
— Тетя Оля, а самую большую дочку Нарина зовут?
— Да.
— Видишь, я говорила, а ты говорил «солнце».
— Я «Нарина» говорил, а это значит «солнце»…
— Тетя Оля, а Василий Иванович ведь младший лейтенант?
— Торько пока. Скоро его повысят.
— Видишь, а ты говорила, что лейтенант…
— Тихо, она же услышит!.. Сказано тебе про него не спрашивать…
Эти мальчик и девочка — брат и сестра. Сестра — подросток, а мальчик мальчик. Ольга Семеновна их подкармливает, но приходят они не только за этим — мол, сходим и поедим шоколаду или колбасы американской. Они приходят, вероятно, и потому, что встречают здесь заботу и любовь, хотя собственная мама в этом им тоже не отказывает, но в гостях же всегда лучше.
Девочку привлекают, кажется, и тайны здешней взрослой жизни; девочка через года полтора станет совсем девушкой, и даже переписывается уже с фронтом, и даже получила письмо от отделенного Гарика Дука, правда, вскоре Гарик писать перестал. Наверно, погиб, но это трудно представимо.
Иногда Ольга Семеновна в стороне от братишки что-то объясняет девочке. Девочка краснеет, но слушает внимательно, и сама, опустив глаза, что-то бормочет. Она очень злая и нравная эта девочка, и с матерью не станет говорить, о чем секретничает, чтобы брат не услыхал, с Ольгой Семеновной.
Еще она с интересом разглядывает всякое женское белье, приносимое в стирку, и смеется с Ольгой Семеновной над старинными панталонами старухи Балиной, в которых специальная прореха между штанин. Такой раньше был фасон!
Так они и ходят, так и заходят. И, возможно, это инстинкт самосохранения, а возможно, инстинкт жизни, ради которого дочиста съедают картошку с тушенкой и девочка и мальчик, ради которого девочка изучает всякие застежки и тесемки взрослых женщин, ради которого спят в приюте и проснутся, чтобы грызть на час против нашего недоваренное по монгольскому правилу мясо, девочки, ради которого, выпив с Василием по рюмке водки «Тархун», как бы забывает о своих далеких детях Ольга Семеновна, и ради которого сам младший лейтенант Василий Иванов сын Суворов, бывший оголец из города Кеми, приноравливается к травяной улице.
— Ольга!
— Да…
— Ольга! Как я люблю глубину твоих ласковых глаз! — красиво шепчет Вася красивые слова песни в полуздоровое ухо Ольги Семеновны, а это можно сделать, только когда лежишь у стенки.
— Мирый!
— Как я хочу к им прижаться сейчас! Гу-ба-ми!
— Пожаруста, мирый рейтенант мой…
— Не лейтенант пока, Ольгуня. Но ништяк! Будем лейтенантами! Слышь, Ольга, ты честно за наркомом была?
— Вы же знаете…
— Забожись.
— Я же паспорт даже…
— Хрен там в твоем паспорте прочитаешь! Он же не русский! Ла-а-адно, поверим. Ну ты, видно, мужиков поперекидывала через ногу, пока до наркома достигла! Со сколькерыми ложилась-то? С восемью ложилась?