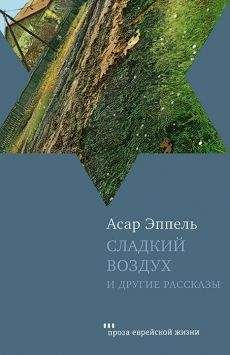Мальчик, подобрав неповрежденный гвоздь, уходит, а Василий, взбудораженный спичечной пальбой, а также идеей подсаживанья девкам карябающихся жуков, начинает есть, начинает хватать Ольгу Семеновну, хотя с ночи вроде бы мог угомониться и пока еще вроде утро.
— Хорошо питаешь, Ольгуня! Шкварки у тебя ем! Как у хохлов! А вы же, как хохлы, — жили с ими и стали, как хохлы! Ну, Ольга, ну товаристая ты, ну я тебе жучка заложу… Оль, а Оль? Ну, Оль?!
— Светро, Вася…
— Ща маскировку! В энскую часть еду, ой не вернусь!
…Жди меня! — строго внушает он ей уже в дверях. — А мы с командиром прискочим в воскресенье-то…
— Васирий! — бормочет она свое. — Ну, Васирий, правда же вы у меня второй…
С травяной улицы слышится гудок приехавшего за младшим лейтенантом грузовичка.
А он и правда у нее второй. Как ни считай. Потому что нарком был первый, а до наркома она только целовалась за смолокурней с Семкой, но Семке мешал длинный загнутый нос, и они так и не смогли толком узнать, что такое целоваться. А он и в самом деле второй… Как считать, конечно, как считать… А тот, который, когда муж болел, приезжал интересоваться, как она устроилась, и намекал, что по мужу есть подозрения, и сказал, что остается ночевать, и накинулся, а она мычала и стискивала ноги, и м-м-могро быть хуже, но он почему-то слез, отступился, только всю обслюнявил… Так что Василий и вправду второй… Правда, когда она приносит белье Балиным и Сони Балиной нету дома, а Боря Балин, Сонин муж, дома, тут что-то как бы возникает, потому что Боря называет ее «Олечка», и она всегда про себя отмечает, что Борис Аркадьевич — интересный брюнет. На нем красивые бурки и полувоенный френч, а на френче нашивка за скрытое ранение руки. Еще она чувствует, что при нем ей спокойно. Спокойней, чем с монгольским мужем, спокойней, чем с Василием, не говоря уж о том, слюнявом. Ей с ним так же спокойно, как возле Семки на смолокурне, и она вдруг начинает стесняться, что принесла белье и что вообще стирает белье, и она говорит, жаль вот Сони нету, и быстренько уходит.
Нет, как ни считай, а Василий — второй…
И наступает воскресенье. И приезжает Василий Иванович Суворов. И приезжает он лейтенантом! Присвоили ему очередное. Стал он лейтенант. Он больше не младший! И слово-то какое вредное — «младший»! Со словом же надо осторожно — помните «постное»?
А приезжает он с капитаном. Лейтенант с капитаном приезжают. На «виллисе». А с ними еще — старший сержант Лукоянов и солдат-сибиряк, чтоб не сказать челдон.
Ольга управляется на трех керосинках и примусе. Низкая коптит, и пускай! Зато пирог будет с гречневой кашей под названием «кныш». Тушенка есть. Шоколаду навалом. Папиросы «Таран», выпущенные в честь летчика Талалихина, первым совершившего таран, и водка «Тархун» зеленого цвета. Хлеб есть, сгущенка есть, картошка. Колбаса и наша есть, и консервная американская. И омлет можно сделать из яичного порошка, и бульон прекрасный кипит, бидон которого Вася взял с пенициллинового завода как отходы.
Пока туда-сюда, Вася ни с того ни с сего — мол, службу он знает! принимается чистить оружие — первый свой пистолет. Но отличник сборки и разборки трехлинейной винтовки Мосина образца 1891 года он запутывается в незнакомых железках и, свалив их на газету «Британский союзник», убирает тяжелую кучу в комод.
Гуляем-торопимся. Дурацкие Васины глаза совсем охренели. Капитан через два часа поедет дальше, и Василий, жуя и выпивая, рассказывает ему, что вот, мол, у хозяйки нашей, у Ольгухи, муж, мол, монгол был, товарищ капитан, монгольский нарком речных путей, поняли? А у монгол и у ходей, товарищ капитан, у них по дружбе полагается насрать, извиняюсь, другу на огороде, и повадился речных путей срать на огород наркому по коневодству, верно, Ольгуха?!..
Смеху жуть! Ольга немного краснеет и смеется тоже, и, уйдя к патефону, ставит пластинку, а Вася пока успевает сообщить капитану, что тут к моей одна пацанка приходит, товарищ капитан, дак через годик можно будет, если захочете…
Начинаются танцы, и Вася, танцуя с Ольгой, говорит теперь ей:
— Ты, Ольгуня, если капитан потрогает, не обижайся. Разрешаю. Ему в энскую часть — в действующую уезжать. А тебе что? Все равно с восемью-то…
А Ольга положила ему голову на плечо, и у Васиных губ сейчас ее недействующее ухо.
Тема-ная ночь,
Маскировкой закрыто окно,
А в ка-вартире военных полно
От сержантов и выше…
горланит Вася знаменитый «ответ» на знаменитую песню, намеренно перевирая строчку «от майоров и выше», дабы комсоставский текст одомашнить.
Уж и гуляет он, и поет, и несет такую околесицу, что забывает помочь вытащить капитанов чемодан, а просто провожает начальство до дверей, бесшабашно вопя лакейскую переделку другой известной песни:
И лежит у меня
Поперек живота
Незнакомая чья-то жена…
Остальные ведут себя тихо. Челдон, молодой парнишка, завороженный трельяжем, то и дело подходит к сверкающим створкам, шевелит их и всякий раз изумленно обнаруживает, что можно видеть себя сразу со всех сторон. По этому случаю ему идеально удается создать позади на гимнастерке встречную складку, точно сориентировав ее по центральному шву галифе. Лукоянов же соскабливает крепким, но треснувшим в одном месте ногтем водоотталкивающее вещество с коробки от яичного порошка и на спичке проверяет — воск ли это, потому что на глаз получается, что это воск без обмана, к тому же глубокая бороздка от ногтя на серой картонной поверхности по виду точь-в-точь такая же, какая бывает на свечке.
Но вот пир кончается. Вот уже всё поели-попили, всё допили-допили. Окурков на столе больше, чем объедков, хотя кажется, объедков тоже полно. Кажется даже, что одни объедки и есть, а их как раз и немного — корок нету, всё съели; большая сковородка, черная и неприкасаемая, имеет на своем дне стеариновые пятна и полосы, не прихваченные вытиравшим ее хлебом. Консервные банки тоже являют нутро с клочками белого жира, меж которых видны синеватые разводы по олову. Три пустые бутылки — прежде, пока в них был «Тархун», зеленые-зеленые, — теперь прозрачны и бесцветны, но стекло их все же как бы зеленится, особенно недоброкачественные линзы дна.
Все это делается резко видно, когда Вася распоряжается включить электричество. И хотя лимит уже исчерпан, и может быть большая неприятность от соседей, МОГЭС'а или милиции, Вася велит Лукоянову свет включить, и тот делает это с помощью небывало уважаемых в народе шила и гвоздя, воткнув гвоздь и шило, острое стальное, в провода на подходе к ограничителю.
И стало резко, ярко, но не хорошо. Все вдруг оказались бледными, а комната, лишившись потемочных теней, непривычная уже к электрическому свету, утратила величину и объем.
И свет выключили.
А Вася мельтешится и суетится. Он ведь сейчас ляжет на койку с Ольгой, а оставшиеся с ночевой однополчане — на пол, куда сложено все пригодное для постелей. Ситуация будоражит его, и он даже не подозревает, что немного стесняется.
— Отделение ложись, за муде свои держись! — выкрикивает Вася прибаутки, а когда керосиновая лампа, будучи сперва прикручена, задувается и по жилью ползет несильный керосиновый смрад, и потемки становятся тьмой, Вася еще мотается по комнате, переступает подчиненных, ударяется об стол, и на что-то падает пустая бутылка.
— Ща, ребя, маскировку отогнем, Ольга вот токо расстегнется!
Вот он отгибает маскировку — лист черной, мятой и ломаной от скручиванья и раскручиванья толстой бумаги, с двумя рейками по верху и по низу, — от этого в комнате светлеет потолок и слегка обозначаются серые рельефы.
Наконец он забирается к Ольге, которая из-за глухоты что-то неслышно-неслышно и на всякий случай непонятно и умильно шепчет, чтобы не обнаружить ненужное посторонним ласковое слово; а Вася и на койку ложится с прибауткой:
— Челдон в Челябу, а Русь на бабу!
И нескончаемо вертится в постели, прислушиваясь, уснули однополчане или нет, а те вроде и всхрапнули по разу, и слюнями поперхнулись, и на бок перевернулись, а он все никак не уймется.
— Лукоянов! — вдруг орет Вася, хотя наконец вроде бы затих, а Лукоянов уже даже и носом свистнул.
— А? — выдергивается Лукоянов.
— На! Проверка слуха!
— А вот — два! — дерзит пожилой Лукоянов и с места засыпает.
Но Вася есть Вася и в накопившейся тишине он снова гавкает:
— Челдон!
— Чо?
— Через плечо!
Молчание. Челдон сильно хочет спать.
— Челдон!
Челдон спать хочет ужасно, но пересиливает себя, чтобы подслушать командирскую любовь.
— Челдон!
— Ну?
— Баранки гну!
Тут мезозойская нервная система челдона, таежным инстинктом поняв, что толку не будет, сдается сну, хотя приказ есть приказ и челдон держится, за что велел держаться отделению лейтенант. Так что вскоре, вместо упущенной командирской, челдону снится любовь собственная, да с такой встречной складочкой посередке, что, как поедешь, так доедешь, только сперва догнать никак не выходит.