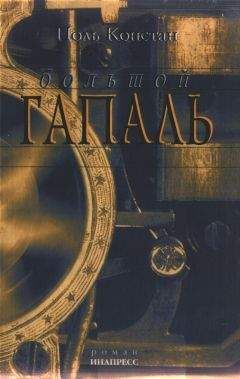София-Виктория уронила лицо в ладони, и зеркало повторило этот жест с исступленной тревогой стареющих женщин, желающих коснуться того, что только что увидели.
— Вы слишком грубы, — ответило зеркало, — все, что было мною сказано, сказано из дружеских чувств. Мне тоже тридцать восемь лет. Я тоже чувствую усталость и нетерпение, раздражение и слабость. Мне нужно было оставить Эмили-Габриель в возрасте двенадцати лет, на пороге весны, когда ее не покинула еще гениальность. Три года, которые возвращают нас назад, три года, вновь делающие ее ребенком. Три года она больше не сопротивляется. О, как я хочу уйти!
— Так уходите, — сказала Аббатиса, — ваши слова просто чудовищны, вы говорите об Эмили-Габриель вещи, которые я и подумать боялась. Ибо вот уже три года я с наслаждением вкушаю плоды безукоризненного воспитания, изящной беседы, изысканного соприкосновения. Вы полагаете, мне хотелось сделать из нее воительницу с пылающим взглядом? Устрашающую амазонку с выжженной грудью? Да нет же, я хотела святую, нежную святую, мудрую, нежную, ласковую святую под дождем из роз.
— Дождь из роз, — рассмеялось зеркало, — дождь из роз, да где вы взяли этот дождь из роз?
— Потерпите немного, он еще не выпал, но для своей маленькой девочки я хочу святости совсем новой, святости единственной в своем роде, такой, какой до нее никто никогда не видел и какой после нее уже никто никогда не увидит, я хочу, чтобы она была самой святой из всех наших святых, чтобы отныне в нашей семье все просьбы и ходатайства шли через нее, чтобы на всей земле это имя — Эмили-Габриель — заменило все прочие имена, чтобы до скончания веков всех маленьких девочек на свете называли только Эмили-Габриель и чтобы меж страниц их молитвенников лежали ее портреты, которые я велю написать в дожде из роз.
— А как же МЫ, — спросило зеркало, — когда я вижу вас такую бледную, растрепанную, непохожую на себя самое, позвольте спросить: какую судьбу вы уготовили НАМ?
— Что касается меня, — ответила Аббатиса, — себя я вижу только мученицей, это вполне соответствует моей пылкой натуре.
— Вы повергаете меня в трепет, — сказало зеркало, — ибо я наслаждение предпочитаю боли, вы повергаете меня в трепет, ибо я боюсь крови, пыточных инструментов. Боюсь огня и воды, боюсь веревок, боюсь ударов, боюсь удавки. Боюсь топора, боюсь расплавленного свинца…
— Тогда уходите, — твердо произнесла Аббатиса, — уходите, ибо вы все это увидите, и услышите мои крики, и почувствуете запах моего пота. Уходите, прошу вас, — повторяла Аббатиса, прижавшись к зеркалу, лоб ко лбу, раскинув руки крестом. — Уходите, — шептала Аббатиса все тише и тише.
— Я не могу, — приглушенно отвечало зеркало, — ведь вы держите меня.
И тогда Аббатиса принялась колотить зеркало головой и кулаками, и зеркало обрушилось водопадом хрустальной крошки. Ведь это было старинное зеркало, очень тонкое, очень легкое, оно рассыпалось в прах.
Тетя! звала Эмили-Габриель, Тетя! Оказывается, она стояла рядом с нею. Что же со мной произошло, спрашивала себя Аббатиса, почему я не слышала, как она появилась? И только затем, у самого входа, она заметила господина де Танкреда. Что делает он в моей комнате? удивилась она. Почему Эмили-Габриель не поняла, что это место предназначено только для нас, неужели сердца наши так растревожены, что я уже не в состоянии слышать ее, а она не считает нужным соблюдать наши традиции? Неужели я воспитывала ее вопреки правилам и обычаям, чтобы в итоге она получилась такой, как все, я растила ее наперекор всем и всему, чтобы она стала всего-навсего образцовой девушкой? В таком случае лучше было бы воспитывать ее в миру, чтобы сделать из нее, из духа противоречия, как мечтают об этом все добродетельные мамаши, эдакую салонную монахиню, из тех, что легко узнать по суровому выражению лица и которая так выделяется там среди всех присутствующих, в то время как здесь очаровательное личико Эмили-Габриель всех восхищает.
В эту минуту Эмили-Габриель казалась важной и серьезной, на глаза накатились слезы, отчего заметно покраснел нос и набухли веки. Эмили-Габриель, стоявшая перед Аббатисой, была сейчас похожа на молоденькую крестьяночку, которую не пустили на бал, разносчицу воды, разбившую свой кувшин, девочку с мертвой птичкой в руке, но более всего она была похожа на отчаявшуюся Деву Марию. Аббатиса узнавала в ней одну из тех девочек, избранных Богом, чтобы вручить им дар любви, от которого они, едва лишь миновал праздник Рождества, получили только страх, сомнения и боль и которые не знают теперь, что делать с этим слишком быстро растущим ребенком. Этот Геркулион, столь мало похожий на божество, такой человеческий, причиняет тревогу, омрачающую их гладкие лбы. Именно поэтому, подумала вдруг Аббатиса, святая история то отнимает его у них, то вновь возвращает несколько лет спустя, когда девочки уже выросли. Художники не осмелились запечатлеть слезы, которыми орошает Дева начало своего материнства!
— Тетя, господин де Танкред хочет поговорить с вами.
Аббатиса увидела, как приближается к ней господин де Танкред, и это не понравилось ей так же, как если бы на живописном полотне какой-нибудь второстепенный персонаж с заднего плана вдруг переместился и встал впереди. Он походил на этих ангелов с короткими прическами, чья принадлежность к определенному полу не оставляла сомнений и про которых сразу становилось понятно: они только что выменяли свою пращу или палицу на пару крыл, тонких, узких и прямых, словно лезвие шпаги. Он был из породы плохих мальчиков, которыми художники могут увлечься, повстречав в каком-нибудь кабаке, и помещают их в углу своей картины, не озарив при этом ни славой, ни благодатью. Они скорее тюремщики, а не охранники, солдаты, а не рыцари. Художники любили подчеркивать их слишком полные рты, подбородки, слишком крепкие, чтобы украшать лица ангелов, они обвели их глаза отсветом постыдных тайн, гнусных преступлений, необузданных страстей, не говоря уже о том, какие формы и обещания скрывали — а в действительности подчеркивали — их костюмы.
— Что вы хотите, Месье?
— Ах, Мадам, — сказал он, — я мечтаю, чтобы исполнились наши желания. Я хочу жениться на Эмили-Габриель, сделать ее графиней де Танкред, подарить ей детей.
— Месье, — ответила Аббатиса, — здесь никто ни на ком не женится.
Помимо прочих признаков процесса, назревавшего уже много месяцев, Аббатисе стало известно от Настоятельницы решение Кардинала: проведав о том, что происходит в монастыре и оказывается скрыто от публики, он изобличал безнравственное поведение монахинь, живущих в мире и согласии с мужчинами, а также присутствие девочки, которую воспитывают в распутстве. Принимая во внимание данные обстоятельства, он рекомендовал госпоже Аббатисе расстаться с племянницей, разогнать гвардию охраны, произвести необходимые преобразования в монастыре и навести порядок в делах.
Настоятельница позаботилась о том, чтобы как можно больше угрозы прозвучало в этих словах, которые она могла бы, конечно, произнести бесстрастным тоном, займи она нейтральную позицию, или выговорить с грустью, будь она на стороне Аббатисы.
— Так вот кто шпионит за нами, — сквозь зубы прошептала Аббатиса. — А ведь она была из самых близких, я доверяла ей все свои заботы, делилась с ней тревогами, приглашала к своему столу, а она играла на скрипке в моей комнате.
Узнав о такой непорядочности, Панегирист прямо-таки подпрыгнул на месте. Странно, но люди, сталкиваясь с предательством, почему-то всегда полагают, будто прежде испытывали теплые чувства к предавшему их, между тем как предательство — это практически всегда отчаянная реакция на безразличие и равнодушие.
— Кардинала ввели в заблуждение, — ответила она, — ему просто-напросто солгали. Я прекрасно вижу, что факты были изложены человеком недоброжелательно настроенным, отчаявшимся, болезненно-подозрительным, к тому же в непристойных выражениях, как если бы подглядывали в замочную скважину. Ведь все зависит от точки зрения, как посмотреть. Великие умы приписывают нам божественные, возвышенные замыслы, а посредственности тянут нас к себе и, смешавшись с нами, передают нашу суть языком банальностей. Люди, осуждающие нас, полагают — коль скоро они нас критикуют, что — таким образом могут возвыситься над нами, а на самом деле делают нас подобными себе! Поскольку, принимая столь несправедливое в отношении моего монастыря решение, Кардинал не соблаговолил обратиться непосредственно ко мне и свое решение передал через вас, мы не считаем нужным подчиняться его приказам.
— И все-таки, Мать моя… — попыталась было протестовать Настоятельница.
— И все-таки, Дочь моя, это именно так, — повысила голос Аббатиса, — вам придется смириться, что еще не пришло время занять мое кресло. Если бы вы меня попросили, я бы вам уступила. Но отнять его у меня исподтишка, с помощью клеветы и предательства! Купить место, которое передается по наследству, надеяться ценой интриг заполучить кресло, которое достигается лишь добродетелью! Не говоря уж о том, что я не могу простить вам, что вы имитировали свободомыслие, вместо того чтобы и впрямь мыслить свободно, притворялись, будто испытываете удовольствие, вместо того чтобы испытывать его по-настоящему, одним словом, подносили ложку ко рту лишь для того, чтобы тут же выплюнуть ее содержимое. Фи, Сестра моя, вы наверняка полагаете, будто благодаря этому делу попали в большую политику, стали одной из избранных, в действительности же вы проявили здесь банальную злобу.