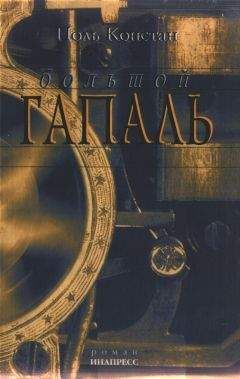— Не делайте этого, Мадам, — вмешался Панегирист, — вы не можете выпустить его из своих рук, пока вы живы, иначе вы так никогда и не узнаете смысла жизни.
— Смерть делает бессмысленным любой смысл жизни, — отвечала Аббатиса — и присутствующим довелось увидеть то, чего не делала ни одна аббатиса до нее: она сорвала с себя Большой Гапаль, который в ту минуту, когда она склонила шею, чтобы снять его через голову, засиял необычайно ярким светом.
Она поцеловала его.
— Мать моя, — взмолилась Эмили-Габриель, — Мать моя… не надо, я не достойна его принять.
Теперь, когда Аббатиса надела его ей на шею, она почувствовала его невыносимую тяжесть.
— Дайте мне уйти, — приказала Аббатиса, при этом изо всех сил ухватившись за плечи девочки, — не удерживайте меня, — говорила она, ища убежища в объятиях племянницы.
В соседней комнате раздался шум — это солдаты взломали дверь, убежище было окружено.
— Постойте, — сказала Аббатиса, — у меня еще имеется в запасе одна уловка, чтобы их задержать. Похоже, против обнаженной женщины они сделать ничего не смогут, именно так защищалась аббатиса де Монбюисон. — Она скинула тяжелое платье, сняла покрывало и вышла в дверь, словно отправляясь в ванную комнату, распустив по плечам волосы.
Раздался выстрел. Один из солдат, ожидавший встретить Аббатису, пришел в ужас, увидев, как от стены отделяется призрак и, хотя и получил приказ во что бы то ни стало взять ее живой, нажал на курок.
Трудно передать всеобщее смятение, ибо одно дело — унизить аббатису, и совсем другое — ее убить. Унижение вызывало насмешки, но смерть приводила в негодование, в особенности если аббатиса, как София-Виктория, находилась в родстве со всеми Домами Европы. Уже мерещились Короли с их армиями, Герцог во главе союзного войска, перед мысленным взором вставал Апокалипсис. Едва лишь новость достигла ушей Кардинала, он почувствовал, как душу его затопляет животный страх, он ведь знал, как велика была Аббатиса, как она была любима. Нельзя сотворить мученика, не запачкав рук, и Кардинал знал, что благодаря этому делу он войдет в историю как убийца. Так он выглядел в глазах толпы, набившейся в комнату, куда принесли Софию-Викторию; вокруг все рыдали, монахини — потому что подверглись насилию, солдаты — потому что их ожидало наказание, и все те, чьи муки нечистой совести заглушал ужас перед неизбежным возмездием.
Она лежала как нищенка, ее бросили на кровать, босую, бледную, с вытянувшимся лицом, широко раскинутыми руками. Ее прекрасные волосы слиплись от крови, а рубашка была забрызгана пылающими алыми пятнами, от которых Эмили-Габриель не могла оторвать глаз. Красный, красный, без конца повторяла она про себя; перед ее глазами стояла картина, которую ей хотелось стереть из памяти, чтобы там осталась лишь Аббатиса. Она стиснула ладонями лицо в отчаянной скорби и тихо повторяла, словно пытаясь смягчить самое себя: Это моя Мать, это моя тетя, это моя Аббатиса. Но и сквозь пальцы глаза с неутолимой жаждой впитывали красное. О Мать моя, если бы вы только знали, какое это несчастье — не различать больше людей и контуры предметов, а видеть только цвета. Я люблю красное, но ненавижу вашу смерть, но ведь красный цвет — самый сильный, значит, я обожаю вашу смерть!
Разметавшись на постели, Аббатиса бредила.
— Свершилось, — сказала она Эмили-Габриель, низко склонившейся над ней, чтобы лучше слышать, — такой конец мне представляется достаточно драматичным, хотя и довольно бестолковым. Я бы предпочла долгую агонию среди свечей и ладана. Чтобы повсюду занавесили зеркала, приглушили колокола, надели намордники на собак и привязали лошадей. Никакая пичуга не посмела бы чирикнуть на ветке. И тогда посреди благоухающих цветов я приняла бы причастие, я попросила бы прощение у каждого из своих людей, начиная с девки, прислуживающей на кухне, и кончая вами. Я преподнесла бы вам урок благородства и добродетели. А сейчас я чувствую свою смерть, но не мученичество.
— О Тетя! Я здесь, и я чувствую ваше мученичество, оно красное от крови, я вижу вашу славу, она алая.
— Девочка, вы самое главное доказательство веры, какое только Господь мог потребовать от меня. Я вручаю вам в руки свою душу, ибо только вы своими деяниями даруете мне либо мученический венец, либо клеймо бесчестья.
— Тетя, тетя, — тихо молила Эмили-Габриель, — вы только не забудьте…
— Что? — почти прохрипела Аббатиса.
— Ваше последнее слово, Мать моя.
Аббатиса выпрямилась, собрала последние силы и произнесла в толпу:
— Господь сияет в моем сердце, как звездный дождь.
Настоятельница, поспешившая сообщить Кардиналу о смерти Аббатисы в надежде заполучить жезл и прочие символы ее власти, была крайне разочарована. Прелат укрылся в своей постели, с которой приказал стянуть занавеси. Ползли слухи, будто он был уже на последнем издыхании и вот-вот готовился разделить печальную судьбу Софии-Виктории, последовав за ней на тот свет. Никогда еще он не чувствовал подобной слабости: кровь отхлынула от лица, он дрожал, липкий пот струился по телу, а ноги в тесных чулках и руки, затянутые в кардинальские перчатки, с каждой секундой все больше леденели, их покидала жизнь. Красные шапки власти, которые он раздаривал направо и налево, радуясь их количеству и рассчитывая на их поддержку, теперь, казалось, вот-вот будут сметены встречным ураганом. И когда Настоятельница, задыхаясь от волнения, стала призывать его подняться с постели и воспользоваться плодами победы, он зарылся головой в простыни и пронзительно закричал: Тьфу! гадина! мерзавка! будь ты проклята! колдунья! — такое обвинение не следовало произносить даже в те просвещенные времена. Настоятельница не имела даже возможности защищаться в суде, ее признали виновной и заточили в тюрьму.
Люди Кардинала дружно приняли сторону несчастья, это вполне обычное явление: самые чудовищные катастрофы трогают даже самые черствые сердца. После стольких жестокостей, приведших к смерти Аббатисы, после зверств, жертвами которых стали монахини, после разграблений, которым подвергся монастырь, люди Кардинала стали действовать так, будто должны были теперь защитить этих несчастных женщин, сражаться с огнем, подступающим со всех сторон, спасти честь Аббатисы. Очистившись своими дурными деяниями, они теперь полны были решимости творить лишь добро. И, словно дополняя картину, гвардейцы Аббатисы, увидев, что силы вновь на стороне Софии-Виктории, охваченные порывом благородства, присоединились к людям Кардинала, с которыми стали делить отныне все их обязанности.
— Вот и первые плоды мученичества моей тети, — произнесла Эмили-Габриель.
Согласно обычаю, как это происходило с телами аббатис де С., тело Софии-Виктории вскрыли, чтобы забальзамировать и вынуть сердце, которое надлежало поместить в небольшую золотую шкатулку. Эмили-Габриель с начала до конца присутствовала при всей этой процедуре, она видела прекрасное тело, которое монахини обнажили и вымыли. Это было тело совсем юной девушки. Она без трепета и дрожи наблюдала за работой хирургов, ее привело в восхищение, что внутренности тети, с их самыми нежными оттенками голубого и самыми мягкими оттенками розового, были столь восхитительны. Если бы я только знала, — думала она, — я бы любила в ней и то, что под кожей! Когда тело стали наполнять благовониями и растениями, она потребовала, чтобы — как это было принято со святыми — ирис смешали с мятой.
Затем пришло время извлечь сердце; Эмили-Габриель подставила ладони, принимая его, оно было еще теплым. Сердце было совершенной формы, какой всегда и бывают благородные сердца, и восхитительного цвета, как это свойственно сердцам некоторых святых. Приняв его в руки, Эмили-Габриель почувствовала — и это было явным и убедительным доказательством мученичества — пылкую радость, небесное упоение, чудесное наслаждение. Она сама уложила его в драгоценную шкатулку и опечатала крышку, но отказалась отнести ее в часовню. Поскольку пламя превратилось в настоящую огненную бурю, она решила, что пора покинуть комнату и вышла, оставив Аббатису лежать на постели, запечатлев напоследок на ее губах прощальный поцелуй.
А снаружи был настоящий ад, гигантский огонь, в который мужчины ведрами плескали воду, набранную в Сене. Кричали столпившиеся ротозеи, истово молились монахини, вопили женщины, ржали вздыбленные кони. Из библиотеки взметнулся огненный смерч, исполинским факелом осветивший небо. Картинная галерея уже превратилась в пепел, и чудовищные языки огня выплескивались из окон галереи львиц. Подняв глаза, Эмили-Габриель дожидалась, когда огонь ворвется в комнату Аббатисы. Сначала он пронесся за окнами, словно живое видение Софии-Виктории, затем вскарабкался на крыши, вновь сорвался на землю; желтый поначалу, он постепенно созрел до ярко-оранжевого и в одно мгновение сделался красным, как рана, из которой вынули сердце, алым, как гранат, пурпурным, как шапка Кардинала, черным, как кровь убитого.