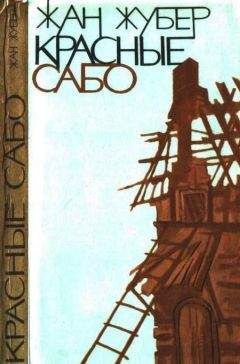— Я вижу, ты много чему обучился, пока бродил по Франции. Теперь ты хорошо знаешь ремесло и твои сабо удобны в носке, но вот только…
Он взял одно сабо и, поднеся его к окну, повертел в руках.
— Что «только»? — спросил Жорж.
— Я тут наблюдал, как ты работаешь: ты все делаешь как надо и у тебя хорошо получается, но если бы ты держал долото вот так, то работа получалась бы более тонкая. Этот секрет мне когда-то показал папаша Бро в Биньоне.
Жорж вынужден был признать его правоту.
— Да, верно, так лучше. Я попробую. Послушай, отсыпь-ка мне табачку.
На дворе стояла осень, дожди лили как из ведра, и сабо сбывались хорошо. Денег теперь хватало, и куча стружек не уменьшалась, а росла, так что печка весь день напролет весело гудела в углу мастерской. В доме появилась картошка, мешок фасоли и, наконец-то, мясо по воскресеньям. Мать заплатила долги бакалейщику, и на ее лице вновь засветилась улыбка. Однако Жорж поглядывал на нее с беспокойством: она похудела и сгорбилась, изнуренная тяжкой работой, нищетой и поздней беременностью — только что родилась моя мать. Волосы ее поседели, и в свои сорок два года она выглядела старухой.
Однажды Жорж проходил мимо школы в Шанткоке, соседней деревне, куда он пришел, чтобы заказать партию леса; он услышал детское пение и остановился как вкопанный, с удивлением узнав «Марсельезу мира» на слова Ламартина. Стояло начало лета, окна класса были распахнуты, и голос учительницы вел хор:
Нил Запада, наш Рейн, светлы твои просторы.
Стреми свой мощный бег меж берегов крутых!
И унеси в волнах извечные раздоры
Тех, что искони пьют от чистых вод твоих.
Я представляю себе, как дядя стоит, задрав голову, перед школьной оградой, в сабо, груботканой рубахе и плисовых штанах, буквально зачарованный этими словами, доходящими до самого его сердца. «Все правильно, — думает он, — добрые семена начинают давать всходы. Скоро весь мир поймет нашу правду, и тогда война станет невозможна!» Детские голоса высоко взлетают среди полуденной тишины, и Жорж, улыбаясь и забыв о делах, все стоит и стоит, прислушиваясь к ним. Гимн заканчивается, слышен мягкий голос учительницы: «Дети, уже четыре часа. Собирайте книги и тетради!» Топот башмаков, гомон. Быстро, не раздумывая, Жорж пересекает школьный двор и стучится в дверь. Ему открывает молодая женщина в сером платье, с волосами, стянутыми пучком на затылке; стоя на пороге в освещенном проеме двери, она прямо глядит ему в глаза, с виду ничуть не удивленная его появлением. За ее спиной, в классе, школьники галдят, шумно хлопают крышками парт. Некоторые встают на цыпочки, чтобы из-за ее плеча разглядеть, кто пришел, и шушукаются, подталкивая друг друга локтями.
— Мадам, — торжественно начинает Жорж, — я проходил по улице и услышал, как вы учили детей этой прекраснейшей «Марсельезе мира». Будучи воинствующим пацифистом, я считаю долгом выразить вам свое восхищение!
Дети толпой теснятся за спиной молодой женщины, она отстраняется, и стайка учеников выбегает из класса, крича на бегу: «До свидания, мадам! До завтра, мадам!» Галопом промчавшись по двору, детишки разбегаются по улочкам.
Она глядит им вслед, все еще держась за ручку двери, и солнце искрится в ее глазах, потом поворачивается к нему:
— Спасибо за ваши слова. Мне приятно это услышать. Я очень люблю моих детишек! В этом возрасте они такие милые. — Но что с ними станется потом? Если бы хоть я смогла научить их таким вещам, как доброта, справедливость и ненависть к войне… Значит, вы тоже пацифист?
И тогда Жорж рассказывает ей о тех товарищах, что останавливаются в его доме, о прочитанных книгах, о деревенских сходках, о том, как его оскорбляют порой, а однажды даже пригрозили избить. Она сочувственно кивает головой Он смотрит ей в глаза и видит в них внимание и симпатию к нему.
— Вот почему, — заканчивает он, — я и решился постучать в эту дверь. Ведь таких, как мы, не очень-то много.
— Сейчас — да, но когда-нибудь, кто знает?
С тех пор он стал часто захаживать в школу. Окончив свой трудовой день и поужинав, он быстренько умывался, приводил себя в порядок и, сев на велосипед, ехал к Жермене. Между Шюэлем и Шанткоком было добрых десять километров, да и дорога шла большей частью в гору, так что он приезжал, изрядно запыхавшись. Но в эти вечера его переполняла радость, он чувствовал себя таким сильным и, пригнувшись к рулю, жал на педали, мчась по грязной дороге, между рядами яблонь. Его ацетиленовый фонарь слабо освещал путь, временами колеса проваливались в рытвину, и вода захлестывала ноги. «Черт бы взял эту чертову грязь!» — кричал он в темноту и тут же начинал смеяться, еще сильнее нажимая на педали.
Он оставлял велосипед во дворе школы и ощупью поднимался по темной лестнице, пахнущей мелом и мокрой шерстью. Затем он трижды стучал в дверь: это был условный знак. Жермена отодвигала тетрадки на другой конец стола и наливала ему кофе. Им столько нужно рассказать друг другу, прежде всего о своем прошлом; так он узнал, что ее муж, тоже учитель, умер год назад, оставив ее с двухлетней дочуркой Жанной, которая теперь жила у ее матери. Но больше всего они говорили о литературе и о политике: социализм, анархизм — они оба считали, что соглашение между ними вполне возможно. Она давала ему читать книги, а когда подошло лето, они стали совершать долгие прогулки по дорогам в прохладных сумерках. Начинали колоситься хлеба. С полей на повозках возвращались в деревню крестьяне, воздух был напоен запахом сена и листвы. До них доносилось блеянье коз на пастбищах, а по временам издали долетал звон деревенского колокола.
Чтобы быть поближе к Жермене, дядя в конце концов перебрался в Шанткок и обосновался в сарае, где он и стал работать на себя одного, выдалбливая сабо. Дни тянулись медленно, а дела шли далеко не блестяще, но, как я понимаю, дядя был так полон своим счастьем, что его это нисколько не заботило.
Я хорошо представляю этих счастливых и чистых душой людей: двух товарищей, воодушевленных общей страстью, общей приверженностью одним и тем же идеям; и когда однажды вечером он наконец возьмет ее за руку, это будет почти братское пожатие. Но за ними, разумеется, уже следят; заклятые враги этой «безбожной школы» не дремлют, и находятся люди, которые повсюду кричат, что учительница — потаскуха, что она неплохо развлекается. Но они слишком увлечены друг другом, чтобы обращать внимание на какие-то жалкие сплетни.
Я спрашиваю себя, не был ли знаменитый подвиг Жоржа, совершенный им в тот год 14 июля, чем-то вроде признания в любви?
Слишком долго остававшийся в тени, теперь он, охваченный страстным чувством, возжаждал совершить поступок поразительный и героический, он долго обдумывал его, выдалбливая свои сабо, и вот, в канун национального праздника, отправился в Шаторенар, где купил у галантерейщика несколько кусков полотна. Утром праздничного дня на площади, разукрашенной трехцветными флагами, началась раздача наград школьникам, мэр промямлил традиционную речь, трубач сыграл несколько мелодий, а дети вместе с учительницей спели «Марсельезу мира». Им похлопали: мелодия была уже знакома слушателям, а слова, впрочем слегка перепутанные оробевшими школьниками, не казались слишком крамольными. К тому же Ламартин — это вам не Жорес, он имел право занять несколько страничек в школьной хрестоматии!
Скандал начался позже, когда праздничное шествие проследовало по улицам, намереваясь совершить обход деревни. Впереди выступал оркестр — четыре трубача и два барабанщика, старавшихся вовсю, за ними вышагивали члены муниципального совета, неся трехцветные знамена. Позади шла небольшая кучка принарядившихся жителей деревни, мальчишки толкались, швыряли петарды в ноги девчонкам, получая в ответ тумаки. С неба струились солнечные лучи, пахло хлевом и спелым колосом. И вдруг шествие смешалось, у мэра вырвалось ругательство, музыканты поперхнулись, а все взоры устремились вверх. Над сараем сапожника развевалось два больших полотнища: одно красное, другое черное.
— Какой позор! А ну-ка снимай сейчас же эту гадость! — закричал мэр, обращаясь к Жоржу, стоявшему со скрещенными руками перед дверью сарая.
— И не подумаю! Это мое личное дело. Каждый волен иметь свое мнение, разве не так?
— Если ты сам не снимешь, то сниму я, понял?
И мэр стал требовать немедленной помощи, — уж не знаю, что он имел в виду — веревки, лестницу. Он побагровел от ярости, остальные бестолково суетились вокруг: большинство стояло за него, другие — их было меньше — доказывали, что, в конце-то концов, никому от этого худа не будет и что сапожник вполне имеет право иметь свои убеждения и вывешивать какие хочет флаги.
Мэр продолжал ругаться на чем свет стоит, но лестницу не несли, и никто не выражал особого желания лезть на крышу. Какой-то старик предложил вызвать жандармов из города, но вокруг запротестовали; словом, началась такая перепалка, что мэр, так и не придя ни к какому решению, совсем пал духом, музыканты снова задудели в свои тромбоны и кортеж удалился, оставив дядю зубоскалить и торжествовать победу.