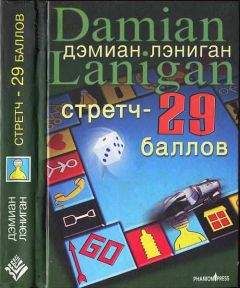Однако к чувству досады примешивалось еще кое-что — спокойная уверенность, что я легко не сдамся.
Интервью с отцом Тома было назначено на такую рань, что и жаворонка бы стошнило. «О’Хара» приучил меня вставать поздно, но Том уперся — интервью должно состояться за завтраком. Когда я поднялся, за окном еще чернела ночь. Накануне позвонила секретарша и передала тревожную новость, что к нам присоединится редактор журнала, некий Тейлор Бернард, который окончил университет на год позже меня и прослыл на весь мир как альфонс, пустозвон, дешевый писака и козел. Он вел несмешные рубрики, изображая из себя молодого консерватора, и недавно опубликовал книгу под названием «Сука» о том, как собака превратилась в женщину, однако дураков покупать ее не нашлось. Отец Тома хорошо понимал, что с Бернардом на посту редактора вокруг «Эмпориума» обязательно поднимется шумиха в прессе, ведь его дружки повсюду заведовали разделами критики в газетах. Если судить по писанине Бернарда, нам не светило найти общий язык.
Но больше всего меня беспокоило, что, если меня действительно возьмут на работу, Бернард немедленно вообразит, будто вытащил меня из сточной канавы. Вряд ли он помнил меня по Оксфорду — это был бы действительно тихий ужас, — но пожелтевшие вырезки моих статей о новых автомобильных стоянках, ограблениях почтовых отделений и районных матчах по футболу, а также три года небытия в Баттерси выставляли мой социальный статус в очень неблаговидном свете.
Меня рассматривали на должность замредактора справочного раздела, воткнутого в конец журнала и состоящего из перечней цен на машины и их спецификаций, информации о магазинах вин и готовой одежды и адресов фирм, упомянутых в журнале. Если справлюсь, обещали иногда поручать написание статеек Я получил копию пресс-релиза, озаглавленную:
ЭМПОРИУМ Журнал для мужчин о питании, напитках, вождении и шопинге. Для тех, кто думает.Вынужден признать, что, несмотря на прежние сомнения, мне понравилось.
Пришлось всерьез задуматься, что надеть, и я с досадой обнаружил, что «О’Хара» успел чувствительно потрепать мой гардероб. Оставался еще костюм, но я сразу же отверг его. В середине девяностых в такой костюм пришло бы в голову вырядиться только временно работающему клерку или продавцу дешевого магазина. Вся одежда более или менее пристойного вида была для работы — шесть белых рубашек, три пары черных брюк, я бы даже сказал «слаксов», и пара сверкающих «мартенсов». Как я не комбинировал эти наряды, в итоге получался чертов официант. Оставались джинсы, кардиганы, пара кроссовок «Самба» (в школе такие поднимали на смех, но теперь они переживали загадочное возрождение), свитер с дыркой на локте и спортивные рубашки с короткими рукавами. Я считаю, что люди слишком много тратятся на одежду, но если у тебя нет хотя бы одного наряда, в котором не стыдно показаться, возникает чувство, что ты смирился с поражением. Мой гардероб явно принадлежал человеку, не рвущемуся в атаку.
Запаниковав, я разбудил Генри и спросил, не найдется ли у него подходящей к случаю одежды. С трудом оторвавшись от снов о гуавах и конвейерном поблочном кэшировании, он заметил, что я вешу на двадцать пять кило больше, чем он, и что его гардероб еще бессистемнее. В конце концов я остановился на бывшей парадной рубашке без воротника, самых старых джинсах, моем невыносимо куцем пальтишке и паре «мартенсов», надеясь изобразить пуританско-богемный стиль, и, отправляясь к метро, решил не смотреть на себя в зеркало. Шишковатые эластичные опоры пассажирских поручней, торчащие из-под потолка скрипучего вагона Северной линии, наводили на мысли о шарике Сэди и члене Гаэтано. Я перевел взгляд на пол.
Встреча была назначена в месте под названием «Гриль у Св. Иакова» неподалеку от редакции «Эмпориума». Место напоминало унылый грот, загороженный толстой стеклянной стеной, в которой невозможно было различить входную дверь. Беспечный мелкорослый итальяшка немного понаблюдал за актом пантомимы, пока я ощупывал монолит стекла в поисках дверной ручки, затем, с издевательским поклоном, потянул дверь на себя. Он, похоже, сомневался, впускать меня или нет, но, услышав фамилию Мэннион, стал обхаживать меня, точно к ним пожаловала Элизабет Тейлор.
Ни мои собеседники, ни другие посетители еще не появились, и официант усадил меня за столиком в центре зала размером с авиационный ангар, отчего моя уверенность в себе и вовсе пошла на убыль. Я заказал «моккачино» без кофеина, и щеголеватый официант был приятно удивлен, что я не попросил кружку растворимого кофе с тремя ложками сахара. Нестерпимо хотелось курить, но я решил, что курить перед интервью, до завтрака, до восьми утра — дурной тон. Соблюдение приличий загонит меня в могилу.
Мэннион и Бернард пришли вместе, Мэннион — в солидной тройке и розовой рубашке, Бернард — с длинными, как у «металлиста», волосами, с головы до ног облаченный в черное. По университету я помнил его чудаком-губошлепом в коричневых замшевых туфлях, болотного цвета вельветовых брюках и твидовом спортивном пиджаке. Интересно, сознавал ли он собственную нелепость? Я сильно сомневался.
С Чарльзом Мэннионом за последние десять лет я встречался раз шесть или восемь, и он неизменно приводил меня в священный трепет. Ему было пятьдесят пять — самый расцвет жизни, он был высок и ходил, выпрямив спину. Как и Том, он был броваст, скуласт и обаятелен, и от него исходило ощущение сдерживаемой энергии, чего о Томе не скажешь. Когда Чарльз открывал рот, не оставалось никаких сомнений, что его будут слушать.
Чарльз не входил в число самых-самых, однако в национальной лиге знаменитостей был далеко не последним. Проработав политическим корреспондентом десять лет, он неожиданно получил должность главного редактора в «Эксис» — американском журнале о политике и финансах, который начали издавать в начале семидесятых Еще через три года он перестал писать и перешел в менеджмент и финансы, превратив «Эксис» в фирму, исправно приносящую прибыль штатовским хозяевам. В восьмидесятых под их началом он стал издавать серию журналов о путешествиях и бизнесе, которыми было хорошо украшать кофейные столики. Журналы шли нарасхват у быстро растущего класса лондонских недорослей, давно разучившихся читать книги, но все еще считавших важным появление на людях с модным изданием. Любому, кто видел его дом в Глостершире и сверкающий DB6[41], сразу становилось ясно, что этот человек не бедствует. У Мэннионов также было и семейное состояние, но Том, но обыкновению, скрывал сумму. Мне никогда не приходило в голову считать баллы Чарльза, однако, пожимая его руку, я быстренько прикинул:
86 — с ума сойти. Ни у кого, с кем я встречался, не было балла выше. Из-за недостатка информации я даже чуть-чуть снизил балл за и , хотя знал, что Чарльз женат вторым браком и жена на десять лет моложе его, за что можно было уверенно ставить балл выше 5.
Я вспоминал о Чарльзе, сидя под Рождество на графской кровати в окружении его неотразимых преуспевающих детей, которые одаривали друг друга «Кругами» и «Картье»[42]. Потом я вспомнил, как проходило Рождество в нашей семье: квартиру, арендованную в Ормстоне, Уигэне или Крюи[43], Отца с большой буквы (бизнесмена, который пошел «другим» путем), вручающего подарок — упаковку из десяти бутылок «Гамлета»[44], и отца с маленькой буквы, мрачно намыливающего веревочную петлю.
Не успев поздороваться, Чарльз бросил:
— Не знаю, сказал ли тебе Том, но у нас всего полчаса.
Его слова сбили мне весь настрой. Выходит, он и понятия не имел, как и кто организовывал встречу, наверное, все шло через секретаршу. Я-то надеялся, что он мысленно заранее оценит мою кандидатуру. Встреча со мной оказалась для него наименее значительным в череде сегодняшних событий — так, лишняя помеха перед действительно важными делами.
Говорил в основном Бернард. Он расписывал издание как «новую парадигму журналистики, сделавшую вывод, что интеллектуализм и потребленчество в посттэтчеровской Англии более не противоречат друг другу». Вывод был в принципе верный, но не способствовал развитию беседы. Мой язык оставался на привязи почти все полчаса, я только кивал, по-обезьяньи одобрительно гукая в ответ. Я заказал себе плотный завтрак и сгорал от стыда — они взяли только тосты. Словно поймал момент, чтобы пожрать на халяву, но им, видимо, было все равно.
Весь монолог Бернарда был построен на втаптывании в грязь любого другого журнала, хотя бы отдаленно способного составить конкуренцию его собственному. Мне доводилось читать некоторые из них, и у меня не сложилось четкого мнения ни за, ни против, но я на всякий случай соглашался. Особенно доставалось всем изданиям, где работал раньше сам Бернард. Очевидно, он не принимал в расчет свой собственный вклад в насаждение безвкусия, пошлости и банальности.