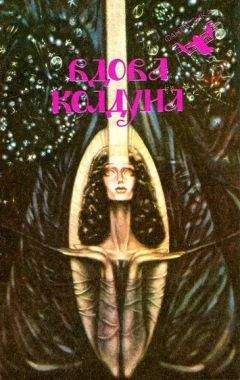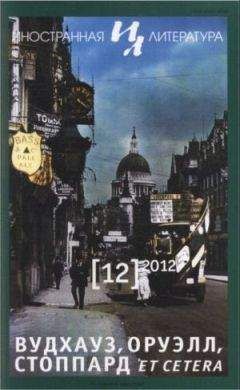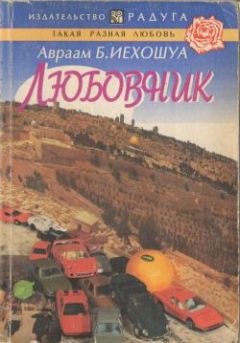— Нет, не от усталости, бабушка, а от давно забытого чувства, что ты один-одинешенек — ведь с момента, когда меня взяли в армию и до той самой ночи, я ни минуты не оставался наедине с собой — вечно окруженный степными волчатами, вечно в каком-то строю, под неусыпным оком, выполняя чьи-то приказы, переходя из рук в руки, днем и ночью, вплоть до того, что чужие сны врывались в мои собственные… И вот вдруг, совершенно неожиданно, без подготовки, я оказываюсь совсем один, в абсолютно чужом месте, поблизости ни одной живой немецкой души и, что самое страшное, бабушка, без командира, который приказал бы мне как поступить. Поэтому в первую очередь я должен был найти себе командира, а поскольку других кандидатов не было, то я назначил на этот пост самого себя, и назначение оправдалось, создалась привычная ситуация, и я немедленно отдал себе приказ: выбрать стратегическую точку; я нашел угол, где амфоры побольше, укрылся за ними и приготовился вести наблюдение, но поскольку по причине отсутствия очков моя боеспособность была исходно весьма и весьма ограничена, то я, бабушка, раскрыл носилки, улегся на спину и под звон цикад принялся за свой военный паек, устремив взор в небосвод, усеянный новыми для меня звездами, которые вскоре предстанут во всем великолепии и перед вами. Итак, на исходе первого дня доблестных битв, в ночь с 20 на 21 мая 1941 года я погрузился в глубокий, можно сказать, едва ли не доисторический сон, от которого меня пробудило поутру ржание мула, явившегося во дворец Миноса в сопровождении двух греков, и я, недолго думая, выскочил из моего укрытия и взял их в плен…
— Да, я должен был так поступить, у меня не было другого выхода, сейчас объясню почему, но только, если вы уже передохнули, я предлагаю продолжить наш путь до следующей остановки; с этого места тропинка становится еще легче, идти — одно удовольствие, дорога ведет не столько вверх, сколько в обход, и мы окажемся вскоре на западном склоне, откуда открывается вид на город… Итак, если вы готовы…
— Нет, стемнеет еще нескоро. Мы вышли в три и будем обратно ровно в семь, к ужину, который готовит в вашу честь Бруно Шмелинг, и темнота не застигнет нас в пути, я в этом уверен…
— Ничего страшного, завтра я пошлю за ним одного из наших пленных-итальянцев…
— Не волнуйтесь, все будет в порядке…
— Нет, я не забуду, и вообще, помилуйте, бабушка, может быть, вместо того, чтобы беспокоиться об этом несчастном стуле, вы взглянете на потрясающий вид, который открывается перед вами, обратите внимание, как чист и прозрачен воздух, такого нет нигде, от него грудь распирает — прямо до боли. Не могу удержаться, бабушка, чтобы не прочитать вам строфы, которые я заучил наизусть:
Остров есть Крит посреди виноцветного моря, прекрасный,
Тучный, отвсюду объятый водами, людьми изобильный;
Там девяносто они городов населяют великих.
Разные слышатся там языки…
В городе Кноссе живущих.
Едва девяти лет достигнув,
Там уж царем был Минос, собеседник Крониона мудрый[30]
и так далее и тому подобное… ха-ха…
— Может быть…
— Может быть…
— Просто так… захотелось. Здесь придержитесь опять за петлю, что висит у меня за спиной, и послушайте, как завывает греческое судно, входящее в порт. Когда по ночам я слышу вой их сирен, мне кажется, что я все-таки побывал на одном из военных кораблей отца…
— То есть «деда-отца»… короче говоря, опы…
— Может быть, вы правы, и я нарочно затягиваю рассказ, ибо в то утро, бабушка, в меня действительно запали первые зерна того, что вы называете "попыткой скрыться", Шмелинг — "потерей представлений", а я — и это вернее всего — "пленением духа", потому что, когда я увидел, как эти два грека — а кто они такие на самом деле я тогда и вообразить себе не мог, как говорят, в страшном сне — выходят из-за колонн…
— Сейчас… сейчас…
— Еще минутку… Итак, два человека, ведущие под уздцы мула, на которого навьючено два-три больших мешка — припрятать на черный день, ибо у них, бабушка, не было никаких сомнений в том, что мы, немцы, в конечном счете возьмем верх в этом бою, хотя исход его был тогда далеко еще неясен. Место это они знали настолько хорошо, что сразу заметили — амфоры стоят как-то не так, и поняли — кто-то прячется за ними, но в первый момент они замерли, должно быть, от страха, а то бы наверняка позвали англичан, которых, судя по могильной тишине, воцарившейся к утру, я считал полными победителями. И тогда, чтобы опередить их, чтобы пленниками стали они, я выскочил из своего укрытия — «шмайсер» наперевес, направлен на них, насколько мне позволяла моя близорукость — и крикнул им по-английски: сдавайтесь, мол…
— "Хундц ап!"[31] Так нас учили еще в Афинах заявлять каждому англичанину, который пожелает вступить с нами в беседу…
— Убить? Как это, бабушка? Ведь это были гражданские лица, а в мае 1941 года нам еще не рекомендовалось расстреливать гражданское население, тогда ведь еще не знали, что именно оно станет лишим злейшим врагом…
— Двое, отец и сын. И как раз сын, который был всего на несколько лет старше меня и выглядел как один из наших — статный, светловолосый, лицо, можно сказать, даже приятное, — именно он буквально обмер при виде «шмайсера», направленного на него; отец же не изменился в лице, может быть, потому, что и так выглядел, как дух, вставший из гробницы, которых, наверное, немало в этом дворце; на нем был черный запылившийся пиджак, вокруг шеи тонкий галстук в полосочку — как веревка, лысина на макушке, очки, которые, честно говоря, бабушка, были еще одним стимулом моих героических действий…
— Конечно… Но когда я сорвал их с него и нацепил себе на нос, то оказалось, что я старался зря, поскольку мир, который до сих пор я видел расплывчатым и размытым, теперь предстал предо мной маленьким и удаленным, будто я смотрю на него в телескоп, но очки я тем не менее не отдал, я их конфисковал и спрятал в карман, чтобы потом попробовать еще раз. По улыбке, которая промелькнула у него на лице, я увидел, что он сразу понял, с кем имеет дело, что этот черный скорпион, который выскочил из норы, на самом деле злополучный немецкий парашютист, который сбился с пути и потерял очки; он воспринял это, по-видимому, как дело настолько житейское, что тут же, не дожидаясь моих вопросов, заговорил со мной, очень вежливо, на весьма примитивном, но в общем понятном немецком: он гид, водит туристов по этому дворцу, сегодня утром он решил спозаранку сходить и проверить, не пострадали ли эти развалины от обстрела; потом добавил, что он готов повести меня к себе домой, чтобы поискать там очки, которые мне, может быть, подойдут, а когда увидел, что я колеблюсь, опасаясь ловушки…
— Конечно…
— Конечно… то сразу предложил послать за очками сына, а самому остаться заложником. Такое разумное и, вроде бы, честное предложение нельзя было не принять, и с этого момента, бабушка, между мной и этими людьми установилась какая-то странная связь…
— Сейчас… сейчас…
— Нет, они уже не… Погодите, я сейчас расскажу…
— Нет, вы ошибаетесь. Не было тут никакой ловушки, и совсем они не виноваты в том, что я возвратился на поле боя, когда бой уже был окончен. Ведь я пребывал тогда в абсолютной уверенности, что вокруг полно англичан, и был полон решимости сражаться и не сдаваться в плен. А как же я мог сражаться без очков? Посему я без дальнейших колебаний принял предложение этого духа, говорившего по-немецки и вызвавшегося служить мне заложником; впрочем я позаботился и о дополнительных весьма серьезных мерах предосторожности: отвел его в одно из внутренних помещений дворца, связал ему руки и ноги бинтом, который извлек из своей санитарной сумки, и, поскольку он был худ, как щепка, велел залезть в одну из амфор; в общем, если что, мне хватило бы одного выстрела; парня же, который был по-прежнему бледен и молча, с ужасом в глазах наблюдал за тем, как я быстрыми и умелыми движениями стреножил его отца, я послал за обещанными очками, но не ранее, чем он по моему приказу отвел мула в комнату рядом и привязал его там, тоже оставив в залог…
— Да, бабушка, я, конечно, думал о таких высоких материях, как честь и ее сохранение после разгрома… Но для человека, который впервые в жизни встречается с врагом лицом к лицу, да еще на оккупированной территории, я действовал, как видите, вполне умело, хотя, надо признать, руки слегка дрожали. С тех пор мне приходилось сотни раз задерживать и связывать людей на этом острове, но тогда, когда я связывал этого духа с лицом в морщинах, руки довольно сильно дрожали, он же улыбался мне так мягко, словно хотел сказать: я вас понимаю и ничего не имею против…
— Очки мне были необходимы, бабушка, так как с пятого класса, как бы трудно вам ни было в это поверить, я на самом деле страдаю близорукостью…