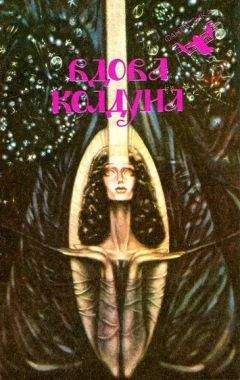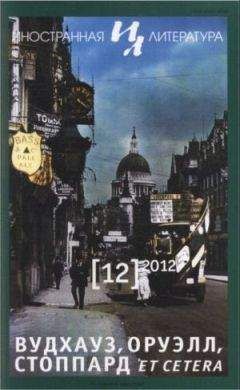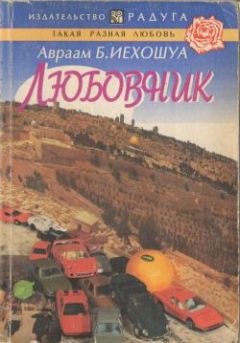— Я еще раз, в который уже раз, уважаемая бабушка Андреи, призвав на помощь вес мое терпение, заверяю, что грохота боя я не слышал, собственно для этого я и привел вас на этот холм — чтобы вы собственными глазами увидели, какое расстояние отделяет ту заброшенную лощину, куда меня отнесло ветром, от мест, где шли бои на самом деле. Вот тут, на берегу и на подступах к Ираклиону, внизу под нами…
— Может, и не верил…
— Может, и не мог поверить… Не забывайте, что в те первые дни боев судьба всей этой гениальной операции была еще на волоске…
— Может, и не хотел верить… Может, вы в чем-то и правы, бабушка…
— Верно. Я признаю. Иногда я поддаюсь пораженческим настроениям, чтобы не быть застигнутым врасплох отчаянием. Я признаю…
— Вот видите, когда я соглашаюсь с вами и частично признаю свои ошибки, вы сразу вините во всем меня и только меня… Как обычно…
— Опять? Получается априори? Будто я родился уже во всем виноватым. Какой смысл продолжать рассказ?..
— Нет, хватит! Достаточно… Давайте спускаться… Какой смысл что-либо объяснять? Довольно!
— Конечно. Да. Я сержусь, потому что вы не желаете выслушать меня, бабушка, потому что вы уже вынесли приговор: он хотел дезертировать, бежать от войны, а я совсем не хотел бежать от нее, я хотел ее понять, и с того самого момента, когда я, исторгнутый из чрева самолета в бескрайний мир, один-одинешенек, оказался между небом и землей, слыша свист пуль и крики тех, кого они поражают, уже тогда я понял, что самый легкий путь — оказаться среди них, среди погибших, а самый трудный — попытаться понять, и я выбрал трудный путь, и потому, спустившись с дерева, на которое опустил меня ветер, я повернул на юг, бабушка, в сторону одиночества, полагаясь на свой инстинкт и разум, веря, что они не подведут, что их повеления по четкости и надежности не будут, по крайней мере, уступать приказам генерального штаба; я настолько проникся уготованным мне одиночеством, что просто не мог в последний момент не обернуться и не перестрелять всех коз, чтобы они не плелись за мной и не нарушали покоя человеческим выражением своих дурацких морд. И вот, бабушка, один как перст, во тьме ночной я оказываюсь среди руин древней цивилизации, да еще той, которая всегда так привлекала и пленяла меня; я еще не знал, как к ней приобщиться, и поэтому совершенно естественно, бабушка, что, когда мне подвернулся этот, стало быть, грек-гид, я попытался выжать из него все, что возможно, и он стал сразу же отвечать на мои вопросы, причем очень любезно; несмотря на унизительное положение, в которое я его поставил, он говорил со мной с самого начала не как враг, сломленный или затаивший злобу, а как один интеллигентный человек говорит с другим, в легкой, непринужденной манере; он искал точки соприкосновения на своем примитивном и медленном немецком, который, как он сказал, выучил, работая гидом, а сейчас, обратите внимание, с момента, когда он увидел, как небо над островом побелело от парашютов немецких десантников, он был уверен, что мы победим и что среди этих десантников найдется хотя бы несколько подлинных гуманистов, людей высокой культуры, которые, когда отгремит бои, обязательно пожелают совершить экскурсию с гидом но знаменитому лабиринту, но он и не предполагал, что уже в первый день судьба пошлет ему одного из таких гуманистов, который свяжет его по рукам и ногам и посадит в амфору…
— Ну я, конечно…
— Сначала просто, чтобы провести время, пока вернется его сынок с очками. Но постепенно его рассказ стал захватывать меня, а рассказчик он был прекрасный. Представляете: лысая голова торчит из горлышка амфоры, как головка старого мудрого змея, искусству подлинного оратора, коим он несомненно являлся, не мешает даже бедность его немецкого; рассказ о тех, кто раскапывал эти руины, переплетается с повествованием о тех, кто обитал здесь в глубокой древности: вот он рассказывает о сэре Артуре Эвансе[32] и его археологической экспедиции, побывавшей на Крите в начале века, а вот о царе Миносе и его свите, живших в этом дворце три с половиной тысячи лет назад — и все они будто из одной честной компании; его рассказ произвел на меня такое сильное впечатление, что уже тогда у меня зародилась идея: если мы выиграем эту войну, если претворится в жизнь мечта старого Коха и тысячи немцев со всех концов рейха будут приезжать на развалины этого лабиринта, то я займусь изучением истоков этой древней культуры, чтобы узнать, настолько ли она сильна, чтобы исцелить нас от переживаний и разочарований, доставляемых нам нашей собственной культурой, за которую мы держимся порой с такой серьезностью, что она превращается в дракона; представьте себе, бабушка, я начал уже тогда…
— Да, когда вокруг еще шли бои…
— Да, признаю, признаю… Я слушал и записывал в своей книжечке, я был так увлечен, что не мог больше сдержаться, и когда начало смеркаться, а этого парня все еще не было, то прежде чем убить заложника, не выполнившего взятого на себя обязательства, я решил развязать его и разрешил ему вылезти из амфоры, но очки ему не вернул, чтобы он не сбежал, и он, такой же близорукий, как я, повел меня по лабиринту, из одного помещения в другое, от фрески к фреске, показывая в натуре все, о чем рассказывал, все, что описывал словами, и тогда я решил вытрясти из него все, что он знает об этой древней культуре, и чем больше он рассказывал о ней, тем больше она восхищала меня…
— Потому что она не несла на себе вины и, стало быть, не знала и страха…
— Так он объяснил мне…
— Например? Например, бабушка, можно судить даже по мелким деталям: вокруг дворца не было никаких укреплений, и это одно убедительнее, чем показания сотен свидетелей, говорит о характере его обитателей: они не только были миролюбивы, но и уверены, что им ничего не
грозит. Вся настенная живопись, все эти цветные фрески излучают безмятежность и счастье, и даже огромный бычище, кажется, хочет понравиться всем, настолько, что позволяет юношам состязаться в прыжках на своей спине, и кроме секиры с двумя лезвиями на одном из рисунков не найдено более никаких следов оружия…
— Нет, это мнение крупных ученых, и мой гид их лишь цитировал…
— Что?
— Что вы сказали?
— Вы меня поражаете, бабушка…
— Сейчас объясню… Вы удивительно проницательны…
— Сейчас-сейчас…
— Ученые — евреи? Потрясающе…
— Сейчас… Сейчас вы все поймете… Но прежде всего позвольте пожать вашу руку, хотя во имя правды истории надо сказать, что в мире тогда еще не было евреев…
— Да, ни одного…
— Очень просто — они еще не успели придумать себя…
— Да, бабушка, выясняется, что они совсем не такие древние, какими считают себя…
— Понимаю… понимаю…
— Он сам сказал мне это в ту ночь, когда описывал страны и народы, жившие в ту пору в этом районе… Поэтому-то…
— Разумеется, у него есть имя…
— Мани…
— Да, коротко и ясно…
— Без ничего. Просто Мани…
— Нет, я не думаю, что это сокращение… Однако…
— Может, от слова "мания"…
— Йозеф…
— Убить его, бабушка?
— Погодите… Куда вы торопитесь?
— Но в том-то и дело — обязательство в конце концов все-таки было выполнено. Оказалось, что сын дожидался темноты, чтобы его не заметили соседи, которые были еще уверены, что англичане блистательно отражают наши атаки; он боялся, что односельчане сломя голову бросятся в лабиринт, чтобы расправиться со мной, а это значит, что и его отцу не сдобровать, — вот он и ждал. Но как только появились первые звезды, в кустах послышался шорох, и не успел я вскинуть свой «шмайсер», как возле меня, бабушка, уже стояла девушка, невысокого роста, худощавая, примерно моего возраста, жена сына, невестка духа, которого я уже выпустил из амфоры; она вышла из кустов первой, "на разведку", неся в руках кастрюлю с чем-то горячим и кофейник — на ночь, потому что, наверное, уже догадывалась, что пять пар очков, собранных по всему дому и замотанных в полотенце, не удовлетворят моего аппетита; и действительно все это были стариковские окуляры для чтения, скорее всего дедов и бабок этих самых Мани, похожие немного на твои, бабушка, я помню, как примерял их в детстве, и мир становился от этого еще расплывчатей…
— Конечно. Первым делом. Ведь я не забыл, где нахожусь. Мани-отец переводил мне все, что ему удавалось выспросить у невестки и сына — светловолосого, увальневатого парня с замедленными реакциями, — казалось, он вообще плохо понимает, что происходит вокруг. В конце концов он набрался храбрости, вылез из кустов, по-прежнему перепуганный до смерти, и приблизился к нам, одной рукой волоча за собой мальчугана лет трех, а в другой держа мешочек с овсом для мула; на нем была какая-то выцветшая шинель, но, подойдя, он ее тут же снял и отдал отцу.
— Да, собрались всей семьей, может быть, чувствуя приближение смерти…