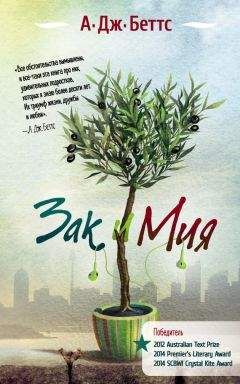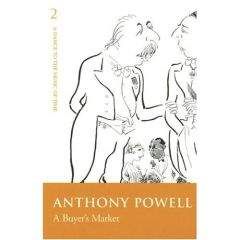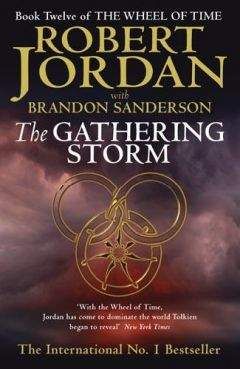Мама заходит в сарай, где я покрываю дерево лаком, чтобы рассказать плохую новость. Папа и Эван загружают ют на улице.
– Нина звонила, сказала, что ты захочешь знать. Он не мучился.
Я задумчиво отдираю засохший лак с ладони. Знать бы наверняка, что он не мучился. Но как это можно знать?
– Сам знаешь, прогноз был не очень оптимистичный, ну и вот…
Да, и все-таки прогноз подразумевал еще хотя бы двенадцать месяцев облучения и операций, обследований, надежды. Прогноз не обещал внезапного сердечного приступа в трех километрах от дома. Успел ли он нажать на тормоза? Понять, что происходит? Заметить, что играют в эту секунду по радио?
– Успел проехать напоследок на любимой доске, – говорю я. Голова кружится. Надышался лаком, наверное.
– Он всегда так хорошо к тебе относился… – говорит мама и кладет мне руку на плечо. Я чуть дергаюсь от неожиданности, и она тут же замечает свежий синяк. – Что это, Зак?!
– Не обращай внимания, случайно стукнулся.
– Обо что?!
– А похороны будут?
– Да, завтра.
– В Перте?
– В парке Скарборо-Бич. Что-то меня волнует этот твой синяк…
– Я съезжу.
– Хорошо, – кивает мама и тут же начинает строить планы. – Остановимся у Триши…
К свежелакированной планке прилип волосок из кисточки. Я вытаскиваю его, как занозу.
– Я возьму Мию.
– Она разве не…
– Нет.
У меня перед глазами стоит не жуткая рана на ее ноге, а ее глаза. Она кричала, что ненавидит меня, но в глазах было другое. В них был ужас.
И я жутко за нее боюсь. Того, что она может сделать, во что может влипнуть. Я точно знаю, что она сбежит – и будет бежать от всякого, кому не все равно.
А мне не все равно.
Сэм умер, и я ничего не мог поделать, но Мия…
– Я отвезу ее домой.
Но ее уже нет. Бекки снимает с кровати постельное белье.
Все, что принадлежало Мии, исчезло, кроме мобильника и зарядки, воткнутой в стенку. Я беру его, включаю и иду к маминой машине. Читаю последние сообщения:
Мия, возвращайся. Мы со всем разберемся. Я же твоя мать.
За что ты ненавидишь меня? Я не виновата.
Я люблю тебя, Мия.
Я ищу ее на автобусной остановке, но все скамейки пустуют. До прибытия автобуса еще два часа.
Я по очереди объезжаю каждую улицу города, пока не нахожу ее. Белый парик сложно пропустить даже в толпе, а она стоит у полицейского участка и рассматривает объявления о людях в розыске. Я останавливаюсь и смотрю на нее. И до меня доходит: Мия хочет, чтобы ее нашли.
Я выхожу из машины, перехожу дорогу и встаю рядом с ней. Мы разглядываем лица на объявлениях, и я гадаю: хотят ли эти люди и дальше оставаться пропавшими без вести? Или им тоже мешают вернуться гордыня и страх?
– Сэм вчера умер.
Помолчав, она говорит:
– Я знала его. Он предлагал сыграть в бильярд.
– Ты сыграла?
– Нет. Хотя стоило. Он был приятный. Жалко.
Мы разговариваем с отражениями друг друга в стекле. Как с призраками друг друга.
Я говорю, что еду на похороны.
– Зачем?
– Я считал его другом. Похороны в Перте. Можешь составить мне компанию, если хочешь.
Она закрывает глаза, качает головой и одними губами произносит:
– Не могу.
Все слишком запущено в ее жизни, чтобы она могла сама сделать этот выбор. Нужно, чтобы его сделал я.
Я забираю у нее костыли и прислоняю их к окну, потом подхватываю ее, беру на руки и несу к машине. Она оказывается тяжелее, чем я думал. Еще она довольно горячая, а кожа кажется липкой. Как же я не замечал, что ей настолько плохо?
Я быстро возвращаюсь за костылями и только тогда вижу фотографию в левой части стенда. С нее улыбается девушка с ярко накрашенными губами, безупречной улыбкой и роскошной гривой темных волос.
«Разыскивается Мия Филлипс, 17 лет. Перенесла ампутацию, нуждается в медицинской помощи. В последний раз появлялась в доме подруги в г. Перте».
Я еду домой за сменной одеждой. Мия остается ждать меня на переднем сиденье. Когда я выхожу из дома, мама стоит и ждет у машины. Я обещаю быть осторожным, помнить про кенгуру на дороге, регулярно останавливаться отдохнуть и переночевать у тети Триши. Мама обнимает меня через окно, когда я уже сел в машину, и протягивает мне коробочку с лекарствами. Что она еще может сделать?
– Поправляйся, – говорит она Мии и сует ей пакет груш. – Это твоей маме. И тебе. Очень вкусные, – мама хочет что-то еще сказать, но воздерживается и целует меня вместо этого. Я горжусь ею. – До встречи.
Сотни раз я ездил этим путем, но всегда рядом была мама, она заполняла время разговорами. На этот раз за рулем я, и рядом со мной Мия. Большую часть времени она дремлет. Когда она не спит, между нами тишина, уютная, как старое одело.
На заправке я заливаю бак, а заодно покупаю нам холодный кофе и роллы с беконом и яйцом. Потом мы трогаемся, и она задумчиво пьет кофе через трубочку, разглядывая деревенские пейзажи и зелень лугов с ленивыми коровами на выпасе.
Каждый раз, когда мы приближаемся к очередному городу, Мия ловит радиосигналы. Мы слушаем, что поймаем, пока прием с треском не пропадет снова, и она отключает радио.
Я вспоминаю Сэма. В прошлом году, когда наши курсы химиотерапии пересеклись, он пытался «воспитывать» во мне музыкальный вкус во время наших затяжных партий в бильярд. Рассказывал мне истории про девчонок и серфинг. Он любил начинать словами «Когда я был в твоем возрасте…». Было ему всего 32. Он много знал о буддизме. Говорил, это помогает смотреть на все в перспективе. Он клал кий на сукно, целился в белый шар и мог стоять так целую вечность. Он мог проявить выдержку, когда хотел, даже с этой опухолью, пустившей в нем корни и не отпускающей его.
– Это несправедливо, что он такой тихий, – говорю я неожиданно для себя. Мия удивленно смотрит на меня.
– Я про рак.
Он переворачивает жизнь вверх дном, приносит жуть и разрушения. Такой убийца должен врываться в тело оглушительно, с ревом и свистом. Он не должен прокрадываться в тебя незаметно, как вор, и прятаться в голове незамеченным, среди памяти и планов.
– Да, несправедливо.
Мия говорит мало, но я рад, что мы едем вместе и вместе принимаем примитивные бытовые решения: пойдем в туалет здесь или у следующей заправки? Чипсы взять картофельные или кукурузные? Будешь колу или кофе со льдом?
Мия снова выбирает кофе. Я встаю в очередь и наблюдаю, как Мия хмурится, разглядывая блюда в буфете.
– Проголодалась?
– А это точно еда?
– Процентов на сорок. За остальное не поручусь. Ты что, никогда не ела сосиску в кляре?
Она качает головой.
– А ролл с курицей?
– Нет. А ты?
– Ел, но здесь, пожалуй, не рискну.
– Слабак!
Приходится купить два ролла с курицей, хотя они стопудово есть в моем списке запрещенной еды. Продавец кладет разогретые роллы на стойку и с любопытством разглядывает костыли. Мия замечает это и комментирует:
– Акула цапнула.
– Ого, – выдыхает продавец.
Она выдавливает на свой ролл кетчуп и добавляет:
– Мой вам совет – не писайте в море в гидрокостюме!
Затем она ему подмигивает, разворачивается и направляется к выходу Я никогда не забуду выражение его лица.
Не знаю, что будет завтра. Не знаю, что будет с Мией – вернется ли домой, или ляжет опять в больницу, или снова сядет на автобус и поедет на нем на край земли.
Но прямо сейчас мы сидим в машине, жрем пересоленные роллы с курицей, и я не мыслю ужина изысканнее. Настоящее – удивительное и яркое. И Мия как никто умеет меня в нем держать.
Ненавижу Перт. Ненавижу его окраины, где каждый закоулок травит меня напоминаниями.
Ненавижу приезжать на место, и когда выключается двигатель. Зуд по всей голове под пропотевшим париком. Ненавижу, что нужно вылезать из машины, где пакеты из-под чипсов и сиденье податливо приняло мою форму.
– Ты точно не против?
Я пожимаю плечами. А что мне делать?
– Можем остановиться в мотеле, если хочешь. У меня хватит денег.
– Да можно у твоей тети, мне все равно, – говорю я. Мое внимание приковано к часам на приборной панели. До следующего приема таблеток – полтора часа. До тех пор не следует принимать скоропалительных решений.
Мы остановились на улице, которая тянется от Кингс-Парка до самой Свон-Ривер. По обе стороны громоздятся многоэтажки, соперничая за лучший вид в городе. Поблизости не живет никого из знакомых.
– Ты не говорил, что твоя тетя – яппи.
– Она хорошая.
Я смотрю на него и улыбаюсь, давая понять, что пошутила. И что-то в лице Зака притягивает мой взгляд. Он почему-то сейчас кажется старше. Лучше. Я пытаюсь проморгаться. Он напрягается:
– Ты чего?
Может, он просто как ночное небо – вроде одно и то же, но каждый раз другое, как посмотришь?