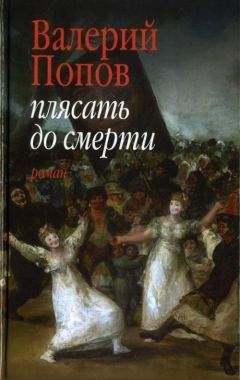Пока Насти не было, хотел ликвидировать их, чтобы Настя тут спокойно жила. Специально приезжал. Понимал, что, пока они тут, нормальной жизни не будет! Главное — выпихнуть, а там пусть воют! Но — вот так же кинулись руки лизать! А когда я, поддавшись их мольбам, уходил, один так тяпнул — до сих пор шрам!
Уложили Настю на единственный приличный диван, и тут же псы к ней забрались, стали лизаться!
— Э, э! — Нонна столкнула их. Заворчали.
— Настька! — воскликнул я.
— Что, батя? — насмешливо сказала она.
С чего бы начать, чтобы побыстрей кончить? С псов этих, которых пора топить? С необходимой уборки? Это к Нонне скорей, но та, похоже, к кошмару привыкла.
— Настя!.. Какую тебе коляску купить?
И такие слова, оказывается, можно произнести! И даже бодро!
— Ну не люту-уй, батя! С делами погоди! Дай передохнуть малость!
Говорит даже насмешливо, словно случился какой-то курьез.
— А кто в уборную тебя будет таскать?
— Я! — Колька театрально, «перьями шляпы по полу», раскланялся.
— Да, кстати… — Она улыбнулась. — Давай!
«Дома и стены помогают»? Такой у нее дом!
Колька, присев, втаскивал ее на себя, тащил за руки, она тяжко наваливалась. Притом — хохотали! Может, действительно, есть на свете любовь? Руки ее обвили его шею.
Медленно распрямляя ноги, поднялся:
— Вес взят!
Согнувшись, понес.
— Моя лучшая роль! — воскликнул.
Лихо развернулся, пихнул ее задом дверь ванной:
— П-р-р-рашу!
Мы с Нонной неуверенно улыбались.
Тащил ее с горшка обратно.
— Николя! — Я вдруг сделал открытие. — Тебя вроде поздравить можно? Про дурь забыл?
— Да когда ж? Анастасию Валерьевну таскаю. Не то что ширнуться — воды некогда попить!
Как всегда, немножко кривлялся… но за его заботы его самого нужно на руках носить!
…И Настя сделала, что обещала. Кольку спасла. Но цена тяжелая: всё отдала!
— Настя! — не мог я смириться с тем, что это… конец. — Тебе стол, наверное, нужен? Работать?
Лежит! Баронесса!
— Честно говоря, — высокомерно произнесла, — я всегда работала лежа.
— Когда это ты работала? — не удержался я.
— Я? — надменно подняла бровь. — Когда в университете училась.
— Лежа, университета не кончишь! — «ввинтил» я.
— Ты опять за свое?! — В глазах ее заблестели слезы.
— Да! Я опять за свое, а ты — опять за свое! Поехали, Нонна!
К своей жизни они вернулись!
— Настя! — чуть дождавшись рассвета, с великим открытием ей позвонил.
— Что, отец? — недовольно и хрипло проговорила она. Разбудил?
— Настя! Литература!
— Что «литература»?
Теперь уже точно слышно, что недовольна.
— Литературой занимайся!
— В каком смысле, отец?
— В буквальном! Литературой везде можно заниматься: в больнице, в тюрьме, стоя, лежа. Здоровой. Больной. И делать прекрасно!
— Отстань, пап! Я сплю.
Я зато не сплю. Помчался к Полонскому. Когда мы с ним в Лондоне были, я его паспорт нашел. Тогда он и сказал мне: «Проси что хочешь!» Сейчас детское издательство возглавляет.
— Вот, Настька! Здорово, а?
— Что это? — пролистнула.
— Детские книжки!
— Но они ж на английском.
— Это и хорошо! Переводить будешь.
— А.
— Ты что, Настя? Опять?
Бабулька давно умерла — ее «отметила». Теперь кого? Может, кого-то из нас?
— Где Колька?
— Сима увезла.
— Совсем?
— Откуда я знаю? — завопила.
— Ладно! Высылаю мать к тебе! — сообщил бодро.
— Папа! Что толку от нее? Кроме курения, ничего не интересует ее!
— Тебе точно не надо никого? Мать у нас — королевский скороход! За час до тебя добирается!
— Ладно, — улыбнулась, — королевского скорохода присылай!
И действительно! Только Нонну проводил, уже звонит, радостная, из Петергофа:
— Вен-чик! Я уже здесь!
— Ну ты сильна!
Счастливая Настька вырвала у нее трубку:
— Спасибо, батя! Она, оказывается, богатенькая буратина! Сейчас будем с ней варганить мясо по-французски!
— А как это?
— Говядина с вином!
— С вином?
— Да. А что? — Настька оскорбилась.
— Нет. Ничего.
…Вечером обе лыка не вязали! Колька позвонил:
— Скажите же им что-нибудь!
— А ты-то где был?!
— Могу я домой съездить помыться, рубаху сменить?!
Рубаха новая, а жизнь прежняя!
Звонок в дверь. Вернулась, подруга? Подливу не поделили?
Резко распахнул дверь. Прекрасное видение!
— Варя?
Бывшая соседка, из бывшего дома, с верхнего этажа… Идиотская формулировка. Но — чураюсь красивых слов.
— А Насти нет дома, — пробормотал я.
— А я знаю. Я к вам.
«Зачем» — бестактный вопрос.
— Вы такой человек! Все выносите. А о вас-то заботится хоть кто-нибудь?
Вот и ангел слетел!
— Что болит, Настя?
— Все, отец. Кровянка изо рта хлещет.
— Но это, ты говорила, давление регулируется?
Молчит. Этого я и боюсь.
— Сходи к доктору!
Это я ляпнул. Как — сходи?
— Издеваешься, да?
— Так пусть отнесет Колька тебя.
— Он на репетиции.
— На какой?
— Откуда я знаю, папа?
— А ты что-то делаешь? В смысле — работаешь?
— Я перевожу, папа!
Сказать, этого мало? Но для нее, может, в самый раз?
Колька позвонил поздно. И языком уже плохо владел.
— …Кровь не переставая идет!
— «Скорую» вызывали?!
Не разобрать, что бормочет. Да еще собаки орут!
— Приезжали…
— И что?!
— Сказали, что в бомжатник этот не будут входить!
— Едем!
Нонна сидела на табурете, свесив руки:
— И что, Венчик?!
— Думай! Помнишь, когда ты в регистратуре работала, там у тебя такой доктор был, Фельдман. Ты говорила, на помощь сразу кидался.
— Я уже не помню ничего, Венчик.
— Но сейчас — надо. Где эти записнухи твои? Господи! Какой хлам!
Фельдман был строг и элегантен. Однако, не морщась, вошел:
— Здравствуй, милая! Ну, показывай, до чего ты себя довела.
— Вот. — Настя смущенно показала скомканные тряпки в крови.
— Это от давления у нее, — пояснил я.
— Покажи-ка живот.
— Отвернитесь! — Настя смутилась. При всей своей разудалости очень стеснительная была. Ноги даже прятала! Помню, на озеро мы шли сзади нее, смеялись: «О, какие ножки, оказывается, у нее!» Огрызалась!
Стояли за дверью. Долгая тишина. Наконец Фельдман поднялся:
— Откуда у вас можно позвонить?
Это не диагноз!
— Сюда. — Я показал.
— Доктор, — спросила Нонна, — что с ней?
Он молча прошел в прихожую, прикрыл дверь. По телефону говорил еле слышно. Не разобрать! Вышел:
— Сейчас ее заберут.
— Доктор! Но что с ней?
— Узелковый цирроз. В самой… серьезной стадии. — И — к ней: — Ну что, милая, ты не знала? Обманула? Кого?
Вышел мыть руки.
Санитары, матерясь, с трудом разворачивали носилки в этом хлеву. Так и не прибрались. Отвлекались все время.
— Папа! Ведь я не умру? — Настька схватилась за мою руку.
Со шкафа (санитары задели) шлепнулась ее фотография: в школу пошла!
— Папа! Не отдавай меня!
— Ну что ты, Настька! Везти-то всего через двор!
— В нашу больницу! — радостно Нонна добавила.
Носилки на колесах заняли весь лифт — санитары еле воткнулись.
— В реанимацию, — сказал врач, уже местный. — Едет только мать.
Настиного лица я больше не видел. Только пятки ее.
Ходил по заливу. Багровая полоса. Черная церковь в полнеба.
Когда вернулся, Нонна уже пришла. Сидела какая-то растерянная.
— Ну что? — спросил я, шмыгая носом (с холода в тепло). — Ты как-то быстро.
— Сидела, за руку ее держала. Рассказывала, как мы «к бабы Любы» летом поедем. Почему-то это ее интересовало больше всего. «Дг?» — сказала ей. Отозвалась: «Дг…»
— Потом?
— Потом санитар пришел. Или врач. Взял ее на руки и унес. А наши руки… разнялись.
— Унес? Почему?
— Не знаю, — пожала плечом. — Может, каталки не было?
— И что?
— Долго ждала… или мне так показалось. Потом он обратно ее принес. Уложил. Она вроде как без сознания была. Стала ей говорить, как мы любим ее. Она вдруг вздохнула и отвернулась к стене…
— И что?
— Доктор взял меня за плечо. Сказал: «Идите. Дайте ей спокойно…»
— …Поспать?
Нонна покачала головой:
— Нет…
Утро было солнечное, яркое. Умылись, вышли.
Нонна ликовала.
— Хорошо все-таки, что в больницу устроили ее. И так близко!
— Может, в булочную сходим? — буркнул Колька. — Чего-нибудь купим ей?
— Да не надо пока.
Но зашли все-таки. Не хотелось спешить.
Больница была солнечная, какая-то оживленная. Встречи. Разговоры. Воскресенье.
Купили целлофановые синие тапочки, долго натягивали. К окошку справочной подошли: