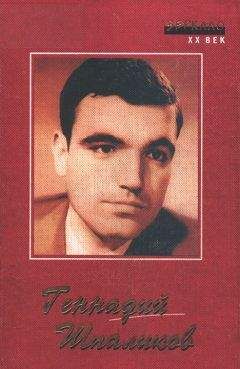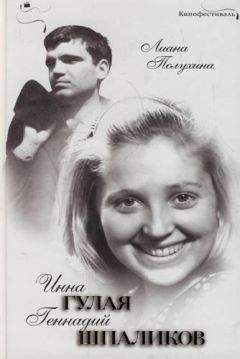Теперь плыли по реке. По самой ее середине. Ветер не утихал. Барка мягко ткнулась носом в песок отмели. Митя спрыгнул. И пошел. За ботинками оставались влажные следы. В стороне работала землечерпалка. Песок качала. В баржу.
Митя медленно, гуляя будто, шел по перелеску. Ветер гулял высоко где-то, в вершинах деревьев, — терзал макушки, сюда же вниз, к Мите, долетал лишь слабый шум и был ему приятен. Лес густел. Митин плащ покрылся вздрагивающими солнечными пятнами. Лес оборвался внезапно.
Большая поляна, поросшая высокой травой, открылась перед ним. Трава двигалась от ветра. Поляну со всех сторон окружали деревья — ольха, тальник, тополь, некрупные дубы. В стволах берез путалась жимолость, листья осин трепетали без ветра, сами по себе.
Митя, блуждая, пошел по полю. Под ногами звякнуло, и Митя поглядел. В траве валялись две ржавые колодки — такие ставят под колеса самолета. Для устойчивости. Это Митя помнил с давних пор. С войны.
Митя сел на траву. Сорвал травинку. Сунул в рот. Пожевал. Прислонился спиной к стволу дерева. Полуприлег. Но глаз не закрывал.
Так сидел он долго. Трава окружала его — пестрая, свежая, — бросала на его лицо рябые, дрожащие тени — слабые совсем, паутина будто, покачивалась, вставала перед его глазами, касалась щек.
Митя глядел в пустое небо. Большие облака медленно двигались над ним. Облако — прелесть, облако — слон, облако — материк…
Старая детская игра.
Время шло, — и было ощутимо только тихим этим, ленивым движением облаков.
Митя не услышал — почувствовал, как в ровный, безмятежный шум и шорох летнего дня вошел посторонний звук. Со стороны солнца снижался самолет. Впрочем, этого не видно было, просто по солнцу мелькнула тень. Митя насторожился, поднял руку, прикрыл глаза от ослепительного света.
И лишь тогда увидел его — штурмовик времен минувшей войны. «ИЛ» снижался, делая плавный круг над полем. Он шел рывками, иногда бесшумно проваливаясь, безвольно планируя к земле, — вдруг мотор начинал работать, самолет взлетал.
Митя встал. Потом выкинул вверх руки и медленно опустил их перед собой.
Делал летчику знак.
Никакого удивления Митя почему-то не испытал. Самолет мягко спланировал в траву, прокатился, бесшумно подпрыгнул и косо встал. Митя подбежал, полы плаща его развевались.
Летчик открыл фонарь. Скинул шлемофон. Светлые волосы сразу схватил ветер. Секунду летчица сидела неподвижно.
— Наташа… — удивился было Митя, но девушка посмотрела на него без улыбки, и он как-то сразу удивляться перестал.
Отжавшись от кабины руками, она выкинула ноги на крыло и, бесшумно скользнув по нему, спрыгнула в траву. Выцветшая офицерская гимнастерка, галифе, сапоги и старая кожаная куртка поверх гимнастерки. Издали она походила на мальчика.
Молча полезла под брюхо самолета — Митя следом, — подтянулась и спрыгнула на другое крыло. Митя стоял внизу.
— Помоги, Митя… — сказала Наташа, и Митя увидел на руках у нее обмякшее тело, одетое в офицерскую летную форму.
Несли тело по полю, к роще. Наташа подхватила под руки, Митя держал ноги. Нести тяжело было. Жарко.
Вошли в рощу. Слабая тень отдавала прохладой. Митя глядел на лицо. Даже вблизи. Шлемофон болтался, цепляя траву.
— Господи, это Клара… — опять удивился было Митя.
— Клара, — без выражения сказала Наташа.
Раскаченный южный день обжег лицо, жаркий воздух хлынул в легкие, охрипший, многоголосый рев моторов оглушил сразу — страшный пронзительный рев, сбивающий с ног.
Аэродром был рядом, за рощей. Взлетные полосы уходили прямо. «Это море, — сразу вспомнил Митя. — Тамань».
Самолеты срывались со взлетной полосы и растворялись. Взлетали ракеты. Где-то стреляли — оглушительно, громко, — но взрывов видно не было.
Тело Клары они опустили в траву, прямо у взлетной полосы. Люди сбегались, образуя тесный круг, молчали. Митя поднял глаза и увидел щетинистого, тощего подполковника. Но тот, казалось, удивления не выказал.
— Чего стоишь? — прокричал он вдруг ему зло. — Иди. Тебе Знахарчук поможет…
Рыли землю у самого леса. Земля была ссохшая и твердая. Знахарчук, отстегнув ремень и повернув пилотку боком, рыл наворотив. По их лицам тек пот. Митя на мгновение обернулся.
Люди у взлетной полосы стояли все так же неподвижно. Самолеты ревели, взлетая. Был полдень.
Потом Митя запомнил хорошо, как стрельнули из маленького пистолета в воздух, но звука выстрела не услышал. Моторы ревели беспрерывно. Молоденькие девочки, большинство стриженные, — все в выгоревших, белых почти офицерских формах. Наташа была среди них. Стук земли о деревянную крышку, напротив, он слышал хорошо…
…Слышал он его и теперь, когда они с Наташей снопа шли через рощу. Потом звук стих. И рев моторов, отдаляясь, замолк. Они шли рядом, несли канистры. По две штуки. Вышли на поляну.
Самолет стоял неподвижно. Тихо было. Трава шелестела. Они подошли к машине, стали заливать бак. Наташа влезла в кабину.
— Отойди, пускаю!.. — крикнула она, и Митя отошел, мотор чихнул, медленно крутнулся винт, потом быстрее. Плащ раздулся.
— Ты когда назад?.. — прокричал Митя, перекрикивая шум моторов.
— Вечером… — крикнула Наташа и помахала рукой.
— Я тебе молока принесу!.. — прокричал Митя. — Накормят!
— Принесу! — опять проорал Митя. — И булку!
— Ладно, — крикнула Наташа и впервые улыбнулась чуть-чуть — Колодки! — крикнула она.
Митя понял и вытащил из-под колес колодки, отбежал.
Самолет развернулся, прыгая, пробежал по траве, взлетел и исчез.
Митя остался стоять посередине поля. Тишина. Облака шли. Гудел шмель. Трава качалась, листва шелестела. Колодки были в руках.
День клонился к вечеру, но солнце еще высоко было. Тепло, ветер поутих. Та же дорога. Отмель. Река. Землечерпалка не работала. Барки не было. Недалеко за будкой тянул дымок. Митя обошел будку. Горел костер. На кирпичах стоял медный таз. Рядом сидел на корточках старик, несмотря на жару — в телогрейке. Старик мешал в тазу ложкой. Он варил варенье.
— Ты кто? — спросил его Митя.
— Сторож, — миролюбиво ответил старик. — А ты кто?
— Прохожий.
— А, ну-ну… — сказал старик.
— Баржа скоро будет?
— Ее и вовсе не будет, — сказал старик, помешивая варенье.
— Это как так не будет? — вспылил Митя.
— Рабочий день кончился, баржу на прикол, и айда… — сказал старик, неопределенно показал направление, куда «айда».
— А как туда попасть? — и Митя показал рукой на ту сторону.
— А хошь, сплавай! — сказал старик опять миролюбиво.
— А посуху? — спросил Митя.
— Тогда по понтону… сказал старик и махнул рукой вдаль.
— Далеко?
— Километров пять, а может, восемь… Недалеко.
Митя повернулся и пошел.
— Эй! — крикнул ему старик в спину. Митя уже далеко был.
— У тебя мотоцикл есть? — опять крикнул старик.
— Нету.
— Тогда велосипедом разживись! — крикнул старик. — Чего ноги бить!
Мост из ржавых понтонов стоял на воде низко. Когда Митя шагал по нему, вода заливала ботинки. Понтоны скрипели.
На другом конце ноля внезапно, как далекий мираж, возникли длинные белые дома. Теперь они и в самом деле походили на корабли.
Огромное небо над ними. Спутанные облака. Митя шел в город.
Прежняя московская жизнь началась сразу же. Стоило только Мите ступить на бетонку Окружного шоссе, и уже как будто и не было никогда ни реки, ни баржи, ни поля с зеленым самолетом — ничего, а был только этот раскаленный жарким днем город, взмокшие лица прохожих, зыбкий воздух, колеблемый от жары, бесконечный поток машин, и милиционер свистел, и две копейки проваливались в автомат, как в бездну, а будка напоминала барокамеру.
— Да, — сказал Митя. — Это я. Не сомневайся… А это у меня от жары голос склеился. Света… — начал он, но тут на него обрушился такой поток слов, что Митя отвел трубку на расстояние…
В руках у него была авоська, в ней пяток бутылок молока и большой белый батон хлеба.
Переждав, он сказал не горячась:
— Катю позови…
— Да, — сказала Катя. — Я тебя слушаю.
Она сидела у телефона босая, в легком платье. Все окна в квартире раскрыты, сквозняки по ней гуляли, раскачивались занавески, хлопали форточки, высоко поднимались углы скатерти, кружили по комнате какие-то листки, плавно касались стеклярусного абажура, и он тихо звенел.
Света, Митина жена, — простоволосая, тоже босая, листала журнал, посматривая на Катю.
— Хорошо, папа, — говорила Катя. — Я постараюсь. Дай-ка запишу адрес. Медленнее, а то тебя плохо слышно.
— Так, — она записала на журнале, молча взяв его из рук матери. — Жди. Все поняла. Между пельменной и букинистическим.