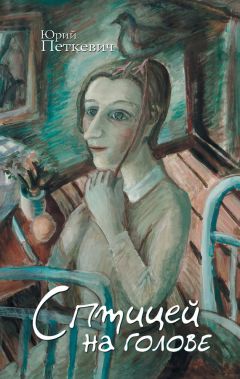Я подошел к молочному отделу, постучал по стеклу на витрине, заглянул в открытую дверь служебного помещения, спросил у продавщицы из мясного отдела: где эта?
— Сейчас подойдет, — лениво ответила продавщица.
— Этот не выспался, — показала на меня пьяная, и опять едва не поскользнулась, и рассмеялась; чтобы не упасть — ухватила продавщицу из мясного отдела за рукав.
Я показал на открытую дверь и попросил продавщицу:
— Позовите из молочного.
Продавщица не пошевелилась, а пьяная женщина в узких туфельках исчезла за дверью — там был деревянный пол — каблучки за стеной застучали иначе, снова послышался смех, только — приглушенный, задыхающийся, и тут же она вернулась.
— Завтракает, — сообщила и, увидев, что я недоволен, что по-прежнему пальцы дрожат на стекле, пьяная, прошептала: — Пускай покушает спокойно — потом хлынет народ. — Она еще ближе шагнула и поправила у меня воротничок. — Куда ты спешишь?
— Иди домой, — подтолкнула ее появившаяся продавщица из молочного отдела. На ходу она жевала.
— Пакет сливок, — показал я, — не этот, а большой за двадцать два рубля, — и протянул деньги.
В одной руке огрызок яблока, другой продавщица взяла деньги, пересчитала одними пальцами, как карты, и подала маленький пакет, но я ничего не сказал, взял сливки, поглядел пьяной женщине в глаза, окунулся в ее растравленную тоску и выскочил из магазина.
За это время солнечные лучи обрели силу — светили ярко и горячо. Я перебежал улицу, прошел мимо цветочных клумб и, очутившись в тени под деревьями, вдохнул сохранившуюся тут прохладу. Шагал неторопливо, словно ленясь, но утро было такое свежее, что сердце, после того как перебежал улицу, продолжало восторженно биться еще долго.
И когда позвонил в квартиру Фроси, не мог отдышаться, волновался и радовался. Но Фрося не открывала. Еще раз позвонил. За дверью ни звука. Нажал и пальца не отнимал от кнопки звонка. Отпустил ее и прислушался. Затем вышел из подъезда — солнце сияло по-прежнему, все осталось как несколько минут назад: чистое небо, зеленые деревья, девушка с книгой на лавочке и мохнатая собака у ее ног, — однако на сердце холодок и снова думаешь о жизни с горечью.
Обогнул дом, за ним простиралась тень. Листья на кустах и деревцах покрыты были росой. Пробирался между ними, и капли осыпались с листьев и оставляли на рубашке расплывчатые пятна, как на промокашке. Ухватился за решетку на первом этаже и подтянулся. Окно оказалось распахнуто. Увидел на кухне над столом бумажный абажур на длинном проводе с потолка: круглый белый шар среди серых стен. Подтянулся к другому окну. Еще один белый шар. Хотел было крикнуть, позвать, но услышал тишину такую, что нарушить ее не решился. Опять обогнул дом. Собака залаяла на меня, и девушка оторвалась от книги.
Я перебежал улицу, но те деревья, под которыми шел пятнадцать минут назад, оказались уже совсем другими, и от этого стало жутковато, хотя, может быть, я просто не заметил, как в душе разрастается тоска, я свыкся с ней и часто не замечал ее появления — она надвигалась всегда незаметно, подобно тени от облака, — и сейчас, когда увидел деревья другими, осознал в себе ее. Осознал и, сжав зубы, шагал и ни о чем не думал, по сторонам не озирался, взор обратил внутрь себя и опомнился, когда застрял среди людей.
Увидел красотку, к ней подвели лошадь; самая задрипанная лошадь элегантней любой женщины, а эта наверняка из цирка, — и я подошел поближе, конечно, к лошади; в это время красотка повернулась ко мне и посмотрела вскользь. В ее голубых глазах застыли слезы. Шагает навстречу; шуршит длиннющее платье, белое, в лиловых цветах, и с голой спиной, прошуршало; прошуршала, обеими руками поддерживала платье, чтобы не наступить на край; я заметил даже опавший лист, прилипший к подошве туфельки. Красотка подошла к толстому мужчине с бородой. В бороде у него крошки, жует бутерброд. Дальше кинокамера на тележке. Оператор смотрит в нее, а тележку толкают по рельсам рабочие; один из них без рубашки. Одной рукой толкал, другой сжимал бутылку пива. Под оранжевым стеклом пузырями пена.
— Стой! — скомандовал оператор, вытирая со лба пот.
Рабочий поднял бутылку над головой, выпятил губы и закрыл глаза.
— Сначала поскачешь на камеру, — начал объяснять красотке бородатый режиссер. — Затем надо повернуть…
— В этой сцене разве не будет моего крупного плана? — перебила его актриса.
Молодой человек с узким лицом и бесцветными глазами равнодушно глядел вдаль и держал лошадь под уздцы. Из-под хвоста лошади на дорожку зашлепали пахучие катышки.
— Где метелка?! — закричала полная растрепанная женщина; у нее на груди мотаются на шнурке от ботинка очки в серебряной оправе. На лоснящейся от пота шее черные полосы от шнурка.
Я засмеялся; смеешься от самых простых вещей, и от этого настроение переменилось, поехало куда-то дальше по косогору.
— Здесь нужна лопата, — сказал я ей и — вижу: идет навстречу Фрося, подошла и расплакалась.
— Что случилось? — спрашиваю.
— Как я опозорилась, — хнычет.
— В чем дело?
— Я забыла по телефону сказать, чтобы ты купил кофе, и выбежала к магазину, но ты к магазину не пришел, к этому магазину, за углом, около прачечной.
— Да, — сказал я, — я проехал две остановки и зашел в «24 часа».
— А я не думала, что ты зайдешь в «24 часа».
— Ну и что, что я зашел туда?
— Я, — говорит, — ждала тебя здесь, и не было сил ждать, и так захотела кофе, что попросила в магазине, чтобы мне дали в долг маленькую пачечку…
— И — дали?
— Нет, не дали, — опять расхныкалась. — Как я опозорилась!
— Не плачь, — утешаю. — Мы сейчас вернемся и в этом магазинчике, за углом, купим кофе.
— Да, — говорит, — в этом … чтобы они увидели.
Заворачиваем за угол, тут она передумала:
— Нет, лучше пошли в овощной, его уже должны открыть.
— Нет, — говорю, — именно сюда зайдем, чтобы у тебя не осталось чувства, будто ты опозорилась. Кстати, — интересуюсь, — ты получаешь пенсию, почему у тебя нет денег?
— Я их не взяла с собой, просто не взяла, потому что думала: встречу тебя.
Заходим в этот магазин, за углом.
— Слушай, — обнимает меня, — купи сосисок. Кофе не надо. Расхотелось уже. А сосисок очень хочется!
— И кофе, — обещаю, — куплю… — Тут же обращаюсь к продавщице: — Пожалуйста, сосисок.
— Я хочу развесных, — заявила Фрося. — Какие я брала здесь в прошлый раз.
— Развесных нет, — говорит продавщица. — Только в упаковках.
— Тогда пошли в овощной, — тянет меня, — раз у них нет!
— В овощном, — уточняю, — разве есть мясной отдел?
— Да, — утверждает. — Там есть разные отделы.
Подходим к овощному магазину. Дергаю за дверь — еще закрыто. На двери табличка, смотрю на часы — еще минут десять ожидать.
— Что случилось? — наконец спрашиваю. — Зачем ты мне позвонила в такую рань?
— Да, случилось, — объявляет она и не рассказывает, молчит.
— Пока есть время, рассказывай, — говорю.
— Я расскажу дома.
— Потом не будет времени, — говорю. — А пока…
— Нет, — говорит. — Это очень важно — то, что я хочу сказать, и — у этих вонючих баков с мусором, у этого столба я буду лучше молчать…
— Пока есть несколько минут, — вспомнил, — давай зайдем на почту, мне надо получить телеграмму.
— От кого?
— Откуда я знаю, от кого?
— Пошли, — говорит.
Тут я передумал.
— Ладно, — говорю. — По пути на работу зайду.
— От кого, — спрашивает, — телеграмма?
— Не могу знать, — развожу руками. — Ты сама подумай!
— Я вот и думаю, — говорит.
Купил развесных сосисок, кофе — конечно; еще бананов; пришли к ней домой; я все это достаю из пакета и — достал сливки, которые купил в «24 часа», — она увидела маленький пакет, и настроение ее опять переменилось.
— В который раз прошу не покупать маленький пакет, — протянула с разочарованием. — Слушай, Юра, что делать с котятами?
— Это по этому поводу ты меня разбудила?
— Нет, — вздохнула Фрося. — Я делаю тебе предложение, — объявила невозмутимо. — Если ты скажешь «да» — тут же иду стелить постель.
Сумел унять дрожь пальцев, шагнул к окну, головой задел бумажный абажур, еще шаг, и лбом уперся в железную решетку, а руки протянул к деревцам, под которыми недавно пробирался, но сейчас до листвы не дотянулся.
— Вечно ты головой — в абажур, — сказала с грустью Фрося и пальчиками придержала раскачивающийся белый шар. — Позвоню в церковь.
— Зачем? — я вынул руки из решетки.
Она сосредоточенно набирала номер. Меня внезапно затрясло от озноба; хотя я вида не показывал, что волнуюсь, и, наверно, в этом преуспевал, однако в одну минуту устал до изнеможения.