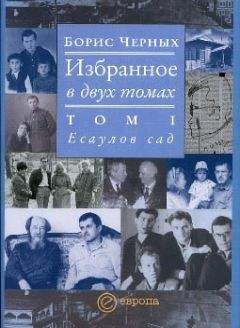Невысокий посмотрел на Высокого и протянул пустую рюмку.
ВЫСОКИЙ. Сейчас придет по вызову Сенотрусов. Иди домой в «Интурист», наш номер пустует.
Он наливает последнюю рюмку. Невысокий выпивает.
НЕВЫСОКИЙ. Высота девять кэмэ, ремни можно отстегнуть… Не бойся, с похмелья я не пьянею. Где он, твой поднадзорный? Скоро быть ему подследственным. Ну, где он, черт?
Высокий берет трубку, звонит.
ВЫСОКИЙ (в трубку). Товарищ дежурный, Сенотрусов на горизонте? Почему не сообщили?! За нашу спортивную форму отвечаем мы, понял. Веди! (Невысокому). Здесь, в точно назначенное время, пунктуалист.
Высокий прячет коньяк и рюмки.
НЕВЫСОКИЙ. На сей раз я молчу и записываю. Но ты не рассусоливай с ним.
ВЫСОКИЙ. А ты не встревай, дай мне самостоятельность.
НЕВЫСОКИЙ. Угу. Где сигареты?
Высокий протягивает ему пачку и идет на звонок, отпирает дверь.
ВЫСОКИЙ. Иннокентий Петрович? Рад вас видеть. Проходите.
ИННОКЕНТИЙ. Господа печники? После вас много дыма…
ВЫСОКИЙ. Смежную профессию нелегко освоить.
ИННОКЕНТИЙ. Вы владеете смешной профессией со времен испанской инквизиции.
ВЫСОКИЙ. Не понял!
ИННОКЕНТИЙ. Да где уж понять, вырожденцы.
ВЫСОКИЙ (пытаясь удержать инициативу). Браво! Но что вы нам пришли рассказать?
ИННОКЕНТИЙ. Ничего не расскажу, а спросить хочу.
ВЫСОКИЙ. Спрашивайте.
ИННОКЕНТИЙ. Как у вас настроение?
ВЫСОКИЙ. На высоте. Высота десять кэмэ, можно курить (протягивает пачку сигарет).
ИННОКЕНТИЙ. Импорт?
ВЫСОКИЙ. А вы привыкаете к махорке? Правильно делаете, Иннокентий Петрович.
ИННОКЕНТИЙ. Воцерквленный не должен курить вообще.
ВЫСОКИЙ. А любить женщин?
ИННОКЕНТИЙ. Женщина – не наркотик.
ВЫСОКИЙ (делаясь важным). Мы решили вас пригласить и официально предупредить. Ваше злобно негативное отношение к умершему вождю и к признанному всем миром нынешнему не доведет вас до добра. Создание организации с четко выраженным политическим подтекстом будет инкриминировано прежде всего вам. Учтите это.
ИННОКЕНТИЙ. Вампиловское книжное товарищество – свободное объединение молодежи, исследующей поэтическую и историческую истину. Мы были в кризисе, но вышли из него и будем жить дальше открыто как дети благословенной России. Учтите это, сасовцы.
ВЫСОКИЙ. Александр Вампилов – респектабельное прикрытие, хотя и он был антисоветчиком. Все его пьесы…
ИННОКЕНТИЙ (Невысокому). Сохраните магнитофонные ленты! Они будут для вас обвинительным заключением. И храните архив. Придет день, эти документы тоже обвинят вас, космополитов. Все, прощайте!
Иннокентий идет к двери, пытается открыть ее.
Высокий и Невысокий смеются.
ВЫСОКИЙ. Подпишите эту бумагу, и вы свободны.
Иннокентий стоит у запертой двери и смотрит спокойно в зал.
ВЫСОКИЙ. Отказываетесь подписать? Добро. Я пишу о том, что вы предупреждены и что вы отказались подписать предупреждение.
Он подписывает листок, протягивает сослуживцу, тот тоже подписывает.
Дверь автоматически открывается. Иннокентий уходит.
ВЫСОКИЙ. Плохо, да?
НЕВЫСОКИЙ. Сойдет. Мы не на выставке служебных собак. Русский парень, Витька. Будет стоять. Не вижу уязвимых мест.
ВЫСОКИЙ. А полячка?
НЕВЫСОКИЙ. Попробуй. Родители летом уедут на море, а чалдона с собой не возьмут. Хотя потеря Полячки его не сокрушит.
ВЫСОКИЙ. Но это сорвет его на поступок из ряда вон.
НЕВЫСОКИЙ. Попытайся. Выдай себя за друга Валенсы (смеется). Но до лета далеко, а сроки нам отпущены малые.
ВЫСОКИЙ. Он профилактирован!
НЕВЫСОКИЙ. Вой на Западе по Посконину – дело его рук, но нет доказательств.
ВЫСОКИЙ. Ну, ладно, сматываем удочки. Сенотрусов от нас не уйдет. Голова у тебя прошла? А ты мне не верил! На посошок и по коням?
Высокий достает коньяк, разливает. Они выпивают.
НЕВЫСОКИЙ. Ты можешь позвонить ко мне домой и придумать нечто грандиозное? В нашей грандиозной стране…
ВЫСОКИЙ. Вышел из доверия? И дались тебе девочки. Комплексуешь? Ну, хорошо, я зайду к твоей и скажу, что тебе поручили корейцев, пришлось с ними пить рисовую водку, ухаживать за шестидесятилетней Ким Ю, племянницей Ким Ир Сена.
Они встают. Невысокий подходит к окну, берется за решетку, трясет ее, поворачивается к залу.
НЕВЫСОКИЙ. Они презирают нас. В этом – все. Они брезгуют нами. Они презирают нас! Их русские догмы источают избранность.
Он поднимает трубку, звонит.
НЕВЫСОКИЙ (в трубку). Эй ты, я в Интуристе, номер 535… Молчишь?… А, отозвалась! Кто я?! А ты кто? Утонченная бледешечка, декадентка…
ВЫСОКИЙ отключает телефон и выталкивает из кабинета сослуживца: «Иди, иди в гостиницу». Выходит следом, но секунды спустя возвращается, подключает телефон, набирает номер, говорит приглушенно.
ВЫСОКИЙ. Квартира Перетолчиных? Мне Надю. Это вы, Надежда? Надюша, я не знаю, что произошло этой ночью между вами и товарищем N, я его сослуживец. Найдите в себе силы думать о нас лучше. Прошу вас. Мы не ангелы, но и не изверги. Сумерки пройдут, ночь уйдет, и снова наступит утро. Я неясно говорю? Я не могу яснее. С Новым годом, Надюша. Я тоскую по России. Бедная Россия…
Он кладет трубку и уходит.
* * *
Сцена. Молодежь с одухотворенными лицами. В лицах дальняя решимость на поступок. Но и отвлеченность – в некоторых лицах. Голос – свыше.
Гитарный всплеск. Песня.
– Ах, это явь иль обман?
Не осуди их, Всевышний.
Старого кедра роман
С юной японскою вишней.
Юная вишня робка,
Но в непогоду и вьюгу
Сильная кедра рука
Оберегает подругу.
Этих возвышенных чувств
Необъяснимо явленье.
Вот почему в отдаленьи
Заговор зреет стоуст.
Как, говорят, он посмел
Нежных запястий коснуться,
Не испросив у настурций
Права на лучший удел.
Не поклонившись сосне,
С ней он безумствовал ране,
Терпкую влагу в стакане
С нею делил по весне.
У одиноких ракит
Он не припал на колена.
Быть же ему убиенным,
Коль на своем он стоит…
И увели палачи,
Серые, мрачные вязы.
Где ты, мой зеленоглазый? —
Слышалось долго в ночи.
И это все, мои соотечественники.
1987
Дневник – традиционный жанр российской словесности. Жанр вполне самостоятельный и, надо сказать, коварный. В дневниковых записях не спрячешься, не заслонишься героем. Дневник, как жанр, требует безусловной и полной откровенности, записные книжки великих людей иногда поражают то мещанским самодовольством и пошлостью, то излишней, в расчете на потомков, экзальтацией.
Перед нами сегодня дневниковые записи Бориса Черных. Нет нужды представлять это имя читателю. Почему мы решили напечатать эти скупые, очень личные записи о давно миновавшем времени? Время ли интересно? Нет. Человеку всегда интересен человек, интересна история души человеческой, которая, как река, начинается не с устья, а с истока, с падюшки, с мари, с ручейка где-то в Богом забытой души. Как и река, душа растет, набирает снеговую воду, кружит, петляет, ошибается, рвется сквозь буреломы, перекаты, стремясь к большой божьей всечеловечности. Человек – сумма своего прошлого. Черных не прячется, не пытается как-то приукрасить, отретушировать себя тогдашнего.
В том, давно исчезнувшем юноше, который учился в Иркутском университете, уже просматривается непростая, ломаная судьба российского интеллигента, и юноша этот еще не знает, что придется ему пережить и допросы в КГБ, и Лефортовскую тюрьму, и Пермский лагерь для политзаключенных.
На праведниках, на неуступчивых резонерах, готовых идти в тюрьму, только бы жить не по лжи, от веку стоит Россия.
Тем и ценны эти строки – в них видно сокровенное начало поисков правды. Божественное течение этой великой реки помогает перемочь все.
Так пусть дневники Бориса Черныха и его судьба станут назиданием и примером нынешнему поколению русских мальчиков, готовых в очередной раз перекроить карту звездного неба.
В. Илюшин
Строки этого вступления принадлежат Владимиру Илюшину, талантливому прозаику, безвременно, в 40 лет, ушедшему из жизни. Он написал их совсем молодым, упреждая короткую публикацию моих записок в Хабаровске.
Теперь надо объяснить, почему между юношескими записями и поздними, конца 70-х – начала 80-х годов, такой временной провал. А потому. Исподволь готовил я себя к поражению и разнес то, что считал необходимым утаить, по домам друзей. Записные книжки 1952—1982 годов я отдал моей сестре милосердия Юлии Пушкиной с наказом: когда катастрофа грянет – молча, без телефонных звонков, отнести Дмитрию Гавриловичу Сергееву, и да хранятся они сколько Богом будет отпущено. Юлия Валерьевна выполнила мою просьбу. Уйма толстых тетрадей перекочевала в домашний архив писателя-фронтовика. Но в 1985 году в городском дворце спорта, при стечении пяти тысяч публики, начальник Иркутского областного Комитета госбезопасности С. С. Лапин объявил громогласно, что зэк имярек при попытке к бегству застрелен охраной 36-й политзоны на реке Чусовой. Ложная весть мгновенно стала достоянием полумиллионного города. И тут что-то надломилось в Дмитрии Сергееве. Он замкнулся, затаился.