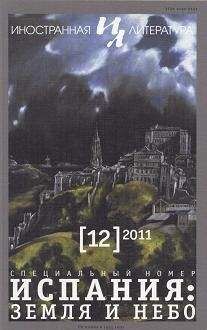Сердце мое бешено билось, когда я вошел в парадное нашего старого дома, Дависито. Я думал о тебе, о папе и о маме и о том, что тут мы уж точно не были счастливы. Посреди парадного я остановился и еще раз внимательно все оглядел, как это делают обычно в музее. Вдруг я увидел прямо перед собой какую-то даму и, словно кто-то дернул меня за язык, вскричал:
— Madame Louvois!
Клянусь, Дависито, я помнить ее не помнил, знать не знал, что такая есть, и все же ее имя слетело с моих губ, как нечто неизбежное и странно знакомое. Она удивленно спросила:
— Qui êtes-vous?
Я ответил:
— Ленуар!
Она хотела меня обнять, но вдруг замерла и сказала:
— Ah, mon peril Lenoir!
И мы схватили друг друга за руки, водянистые глаза мадам Лувуа сияли, и она добавила:
— Mon fils que tu as grandi [9].
И прикосновение ее натруженных, шершавых рук напомнило, как они гладили меня в детстве, и только потом я заметил, как она исхудала и постарела, и подумал, что до мадам Лувуа еще не добрался этот ваш план Маршалла.
Я сказал, что еще зайду к ней, а пока поднимусь к нашей квартире, и она сказала: «C’est bien, mon enfant», но не хотела со мной расставаться и под конец призналась: «Pierre était mort». Я отлично понимал, что´ она говорит, Дависито, и успокаивающе похлопал ее по плечу, мадам Лувуа вздохнула, и взгляд ее унесся в далекое-предалекое прошлое, она отодвинулась от меня и только сказала на прощание: «C’était la guerre, mon fils» [10].
He знаю, смогу ли передать тебе, Дависито, что я чувствовал, поднимаясь по тем ступеням, и как началась та странная метаморфоза. Пока я шел по лестнице, во мне вдруг стали просыпаться забытые мысли и ощущения. И когда отворилась дверь на втором этаже и раздался кислый дребезжащий голос: «Madame Louvois, le courrier!» [11], я, не зная французского, понял, что это мадам Турас и она хочет, чтобы мадам Лувуа принесла ей вечернюю почту. С этого мгновения стены, перила, двери и таблички на них перестали быть мне незнакомыми и холодными, превратившись в свои, родные. Я говорил себе: «Боже, как будто не было всех этих лет». Я услышал скрип ступеньки, и сердце мое застыло на несколько секунд, Дависито, потому что этот звук отозвался у меня в ушах почти человеческим стоном. Я снова благоговейно наступил на ступеньку и, смею тебя уверить, что именно этот скрежет окончательно все во мне перевернул, и с тех пор я уже поднимался по лестнице ребенком, каким был двадцать пять лет назад, нерешительно ползя вверх на поводу у ребячьих мыслей и чувств.
У двери четвертого этажа я почувствовал, что за нею — мама, а в квартире напротив — месье Ксифре, и припомнил правильные черты месье Ксифре и его чувство собственного достоинства, словно виделся с ним еще вчера, Дависито. И близость мамы была такой живой, что в сердце моем отдавалось тепло ее ласки и нежности, и я вновь видел ее в воображении молодой, красивой и горделивой, хоть и с неуловимой грустью, мелькающей в глазах. Все это походило на самое что ни на есть чудо, Дависито, я даже не старался нарисовать в воображении все эти вещи, они сами всплывали бурным, все более полноводным потоком ничтожных деталей и подробностей. Каждая ступенька говорила мне что-то новое, вздымала со дна души уснувшие воспоминания, и я в восхищении останавливался у трещины в степе или зазубрины в полу, вызывавших в памяти целые истории из моего раннего детства, трогательные и наивные.
Я не был взволнован тогда. Даю тебе честное слово, Дависито. Возвращение было нежным, будто начинаешь все заново, и я чувствовал себя не как больной и озабоченный человек, а как здоровый морально и физически, гармоничный четырехлетний ребенок. Воспоминания складывались у меня в голове ясно, как недавно пережитые, совсем близкие, но и, надо признать, беспорядочно, неточно, бессвязно и беспричинно, как сменяют друг друга картинки перед ошеломленным взглядом ребенка.
Я все поднимался, Дависито, и добрался, наконец, до последней лестничной площадки. Почему-то я предчувствовал, что вот-вот произойдет что-то важное в моей жизни, и в первый раз с начала восхождения я задался нынешними вопросами и наваждениями, вспомнил про Робинета и про кроссворд, и что-то в моем детском уме шептало мне: «Горячо, горячо, горячо!» Тогда я увидал дверь в папину студию и вновь превратился просто в мальчика, вспомнил свои игры и забавы и что именно эта лестничная площадка служила мне местом для игр. И еще вспомнил, что вставал на цыпочки и подсматривал в замочную скважину, как папа работает в студии. Я подкрался к двери, Дависито, как мальчик, а не как мужчина, нагнулся посмотреть и увидел не то, что теперь было в студии, а папу у огромного окна в потолке, с кистью в руке, а по стенам — множество картин, набросков, маленьких гипсовых скульптур и несколько гравюр. И тут, Дависито, сердце у меня пустилось вскачь, и я понял, что это воспоминание об уже прожитом событии, потому что вдруг в слуховом окне потемнело, и оттуда показалось лицо Робинета, в точности как на картине, с жидкими глазами и пухлыми губами сердечком. Папа не удивился его появлению, будто бы все гости являлись к нему через слуховое окно, и только сказал: «Quoi de bon?»[12] Робинет не ответил. Он пристально, жадно смотрел на папу и без предупреждения выпростал руку из кармана, и раздался выстрел, и папа рухнул, и клуб дыма застил мне глаза, и тут я заметил, что рыдаю в голос, а другие голоса, крики поднимаются по лестнице. Один из них — мамин, молодой мамы, Дависито, она меня обнимает и говорит с плачем, глядя безумными глазами: «Ангел мой, тебе-то за что все это?»
Когда я отлепился от замочной скважины, у меня сильно кольнуло в почках, Дависито, и я понял, что мамы там нет, а я есть, и мой собственный плач бродит во мне, не проливаясь слезами, хоть я его и «слышал», Дависито, потому что я уже был не ребенок, а мужчина, и сознание мое просыпалось, и, когда я начал спускаться, колени у меня ослабли, и я присел на верхнюю ступеньку, и все же меня переполняло приятное чувство, знакомое тем, кто после долгих усилий и раздумий отгадал-таки последнее слово в кроссворде.
Иногда случается, Дависито, что впечатления и эпизоды, давно погребенные внутри тебя, всплывают благодаря облупленной стенке, или запаху, или слову, или взгляду, или песне. Как по мановению волшебной палочки, ты вспоминаешь тогда всю историю из твоего прошлого, задавленную грузом произошедших позже событий. Совершенно ясно, Дависито, что большая часть таких воспоминаний сойдет с нами в могилу, потому что в жизни нам не попались та самая песня, тот взгляд, то слово, тот запах, чтобы расшевелить их, разбудить, не нашлось пружины, чтобы оживить их в подходящий момент. Эти воспоминания перестали быть воспоминаниями, но, если что-то тайно их подстегнет, снова могут ими стать.
Обо всем этом я размышлял, Дависито, возвращаясь, в парадном пансиона, и там было уже так темно и тихо, что я вошел в лифт и принялся на ощупь искать кнопку третьего этажа со смутным страхом. И окаменел, вместо кнопки нащупав опередившую меня руку. Я отдернул свою, думая, а не брежу ли, и, поколебавшись несколько секунд, вновь потянулся к кнопке, дабы разувериться, но рука была там, Дависито, и была она тяжелой и страшно холодной, и я так оцепенел от ужаса, что уронил свою руку на ту, другую, и тут вдруг вспыхнул свет, и, не оборачиваясь, я увидел за собой Робинета в отражении на стеклах дверей лифта, улыбающегося мне, будто старый друг.
Ах, Дависито! Надо ли говорить, что плевый подъем до третьего этажа обернулся для меня таким невыносимо долгим, что я уж думал, он и не кончится? Приятного мало, честно говоря, Дависито, оказаться запертым в лифте с этим типом, оказаться отданным на его милость, насмотревшись на чертову уйму героев, каких развелось в кино, — из тех, что в мгновение ока соображают что к чему, хватают злодея за жабры, укладывают его парой приемчиков джиу-джитсу, и вот он уже разделан под котлету. Все это вогнало меня в тоску от собственной ничтожности, я-то считал, Дависито, что в жизни все по-другому, даже, например, злодей зачастую оказывается сильнее и ловчее и лучше знает джиу-джитсу, а если честный человек сдуру рыпнется, у него не только бумажник отберут, но еще и наподдадут как следует, если вообще не кокнут. Так оно и бывает: честный человек учится честно зарабатывать на жизнь, а преступник тем временем учит приемы джиу-джитсу, Дависито, и в пиковой ситуации, скорее всего, честный останется без бумажника и в дураках.
Так я думал, пока мы ехали, и Робинетовы руки в карманах пальто отбили у меня и без того небольшую охоту прибегнуть к насилию. Я предпочел выждать удобный момент, и, когда аккуратная старушка открыла мне, я, предупреждая об опасности, подмигнул тем глазом, со стороны которого за мной стоял Робинет; однако аккуратная старушка засмеялась и пробормотала: «Ah, espagnol!»[13], слегка смешавшись. Завернув в коридор, Робинет, наконец, раскрыл рот и сказал: «У вас глаза вашего отца». И, раз уж он не переставал идти за мной к комнате, я предупредил, что моя жена нездорова, но оказалось, у нее уже все прошло; я постучал, и Аурита тут же открыла и обняла меня и сказала, что хочет прогуляться, и вдруг заметила Робинета и осеклась. Он кое-как поклонился и сказал мне: