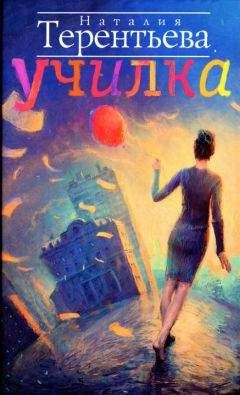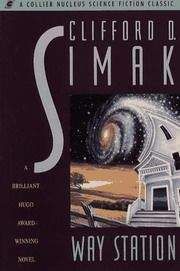— «Сегодня, я вижу, особенно грустен твой взгляд,
И руки особенно тонки, колени обняв…» — начала Саша.
— «Послушай, далеко-далеко на озере Чад
Изысканный бродит жираф», — продолжил Овечкин, пожав плечами. — Не понимаю.
— Не надо ничего понимать. Читай просто.
— Верь, не разбираясь. А если будешь разбираться, вера уйдет? Что-то очень знакомое… — проговорил Миша.
— Миша, как же тяжело все время с тобой конфликтовать! Прочитайте изумительное, загадочное стихотворение Гумилева. Пожалуйста. Не надо ничего комментировать. Потом напишете очень краткое сочинение.
— Тема? — Миша поднял брови.
— Тема — «Как лично я понимаю стихотворение Гумилева».
— И всё?
— И всё. А Громовский еще напишет пару слов про акмеизм.
— Про чё? — вскинулся Илья.
— Про акмеизм, Илюша! — зло засмеялась Саша. — Как восходящая звезда русской журналистики ты обязан знать, что поэты-акмеисты провозглашали точность слова, как у Коли Зимятина, предметность тематики, как у нашего Анатолия Макаровича, и материальность образов, как у тебя.
— Блеск! — восхитилась я. — Пятерка за сегодняшний урок, если она тебе, конечно, интересна.
— Интересна, — улыбнулась Саша. — Мне интересна ваша похвала.
Вот кому бы идти на журфак, а не балбесу Громовскому. Но, как я слышала, Саша из среднеобеспеченной семьи, рассчитывать на хорошее образование вряд ли может. Даже с ее талантами, внешностью, социальностью. Не люблю эту новую Россию, где Громовский будет учиться на журфаке, а прекрасная Саша — в областном педвузе.
— Читайте дальше.
— «Но ты слишком долго вдыхала тяжелый туман,
Ты верить не хочешь во что-нибудь, кроме дождя…» — читала Саша.
А за окном был апрель, апрель, смеялся Никитос, переливчато вторила ему Настька, на голых ветках готовилась взорваться новая жизнь, так запоздало в этом году, в углу школьного сада еще лежал снег, черный, страшный, упрямый, уже не похожий на снег. Мне сорок два года. Так много всего было. Так много, наверно, еще будет. Особенно, если верить в жирафов, которые бродят на далеких-далеких островах и пьют воду из озера Чад.
Даже чтобы написать всего лишь одно стихотворение про «изысканного жирафа с волшебным узором на коже», Гумилеву стоило родиться. От него остались эти слова. А что останется от меня? Книжка про Эфиопию, которая показалась идеальному загадочному Андрису смешной? Книжка о том, как я потеряла в двадцать два года свою любовь и больше никогда ее не нашла. Останутся Никитос с вечно подбитым глазом или разбитым носом, смелый, отчаянный, страшно наивный, Настька, в девять лет ясно осознавшая, что такое предательство. Мое воспитание помогло ей не только нутром почувствовать, но и осознать предательство отца.
Почему я так рано начала думать о том, что останется? Но ведь эти мысли не остановить, если они есть. Останутся мои слова, сказанные во всех моих классах, останутся дети, которые у меня учились. «Настанет день, когда и я исчезну с поверхности земли…» Да что такое со мной сегодня? Неверный гормональный фон? Ощущение своего несоответствия солнечному запоздалому апрелю? Пустое место рядом со мной, которое я так старательно много лет заставляю чучелами. Я люблю рано ушедшего Павлика, я почти люблю Игоряшу, вот чуть-чуть не хватает до любви. А чуть-чуть, как известно, не считается… Я люблю брата Андрюшку и сравниваю с ним всех мужчин. Все хуже его. Нет больше таких благородных, умных. У него тоже был зигзаг, но он сохранил семью, Евгению Сергеевну, всех детей. Никто из детей ничего не понял. Никто не ужаснулся предательству. Я написала книжку о его любви, он ее прочитал, вздохнул, прижал меня, засмеявшись:
— Какая ты маленькая глупенькая дурочка, Анька! Если бы все было так просто. Но роман хороший.
«Я очень смеялся, но книжка грустная…» Кто-то мне совсем недавно это говорил, кто-то, кто за час с небольшим сумел внести сумятицу в мою душу и жизнь. Так ведь бывает? «Когда ее совсем не ждешь…» Нет, нет, да вы что! Ко мне никто и ничто не нагрянул. Это странная шутка моего брата. Этого вообще не было. Не было, и точка. Нужно вернуться в тот день, представить, что все было по-другому, и начать отсчет заново. Вот мы сожгли пирог, вытерли с пола выкипевший суп, вынули из пылесоса штору, кое-как скрутили ножку у пианино скотчем, чтобы Настька смогла позаниматься и… Раздался звонок в дверь — пришла соседка за солью! Потом мы втроем повесили полки, картину с чердачным окном и симпатичным котом, пошли погуляли — апрель — и легли спать. Всё, точка. Остальное я увидела во сне. Как падает дерево, как приходит кто-то, похожий на Павлика и не похожий, нездешний, прекрасный — таких мужчин просто нет. Мужчины ужасны. А мне приснился прекрасный. Я разве забыла, как ужасны мужчины? Назойливая болтовня второго мужа, Игоряшина борода, пахнущая котлетами с луком, его потные руки, тяжелая близость, настойчивый взгляд, упрекающий, просящий невозможного. А мне приснился идеал. С иностранным именем. Потому и имя иностранное. Потому что выдуманный идеал. Отлично. Расставила всё по местам. Роза не хочет со мной дружить? Так и здорово. Неужели еще дружить с Императрицей, с Нецербером, чтобы на меня показывали пальцами и переговаривались — и что это я с ней дружу? Чтобы быть ближе к власти… Нет, так что-то еще грустнее жить. Тогда пусть будет по-другому: Роза хочет со мной дружить, но не может себе позволить иметь в школе близких друзей. Вот так не очень обидно.
Таким образом можно себе все объяснить. Поменять угол зрения. Реальность останется той же? Не знаю. Я не знаю, какая реальность. Я знаю только то, что я вижу и чувствую. До того момента, пока я не узнала, что Юля Гусакова беременна, реальность была одна. Теперь она другая. Теперь я точно знаю, что Игоряша больше с нами в отпуск не поедет. Он не маленький мальчик. Раз допустил такое — пусть расхлебывает. До того момента я была чем-то обязана Игоряше. За его любовь и верность. А теперь — нет. Ничем не обязана. Чучела нужно свои все перетрясти и убрать в чулан. Корень близкий в словах — не случайно ведь. Чу, Игоряша!
— Анна Леонидовна! — остановил меня некрасивый географ, когда я уже сбегала по ступенькам из школы после уроков.
— Да?
— Вы… Ты придешь к Розе на день рождения?
— Приду. А… — Ну как мне ему говорить «ты»?
Он понял мою заминку.
— Я тоже приду. Может, вместе подарим что-нибудь?
— В смысле?
— Сложимся, чтобы посолиднее было.
— А другие тоже складываются?
— Я не знаю. Тебе идет это пальто. Очень красивый цвет.
— Спасибо, это мне муж бывший подарил.
— Бывший?
Анатолий Макарович, он же Толя Щербаков, обрадовался? Или мне так показалось?
Я засмеялась.
— Давай сложимся, а то я тоже не знаю, что ей дарить. Карточку в «Л'Этуаль», пусть купит себе какие-нибудь королевские духи. Она же королева.
— Королева… — подтвердил Толя.
Я протянула ему деньги.
— Купишь карточку? А я напишу открытку, в романтическом стиле. «Ты прекраснее всех, наша Роза, не боишься ни гроз, ни мороза…»
Толя засмеялся и сказал:
— А ты помнишь, как в лагере однажды вечером мы сидели на пригорке…
— Толя, извини, пожалуйста. Я совсем не помню лагерь. Я ведь чуть младше. Я как-то этот возраст помню избирательно.
— Жаль.
Да, кажется, я нравлюсь географу. Этого достаточно, чтобы ощутить себя молодой, красивой, пусть не королевой, но… Да я и без этого обычно ощущаю себя молодой и красивой и почти что королевой. Ощущала, до вчерашнего дня. Но ведь я с собой договорилась — вчерашнего дня, точнее вечера — просто не было?
Я тряхнула волосами.
— Я пойду, прости. Меня дети ждут. В младшей школе.
— Я провожу? — Толя, не дожидаясь ответа, пошел рядом со мной.
За пятьсот метров, отделяющих старшую школу от младшей, он успел рассказать мне, как тонул на Алтае, покорил две знаменитые вершины, однажды путешествовал все лето в одиночку, пересекая сибирскую тайгу по бездорожью.
— Здорово, — сказала я. — Пока!
— Нет надежды? — Географ взглянул на меня с очень знакомым выражением упрека и… надежды.
Я засмеялась.
— Апрель, Толя! Апрель! А пальто я это ненавижу. Просто нет времени купить другое. Но я обязательно куплю.
— Андрюша, — позвонила я вечером того же дня брату, — зачем ты это сделал?
Я была уверена, что он начнет отшучиваться. Но брат помолчал и спросил:
— Криво полки висят?
— Нет, ровно! Но зачем ты послал мне этого разведчика?
— Разведчика? — Андрюшка стал смеяться. — Почему, Анюта, разведчика?
— Ну а кто он? Кто у тебя в ведомстве еще работает? Подводники, что ли? Или кондитеры?
— Анюта, успокойся. С чего ты решила, что он у меня работает?