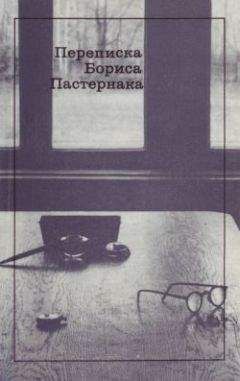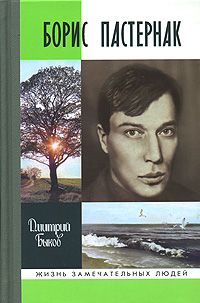Вообще-то ссылка (отнюдь не острог Достоевского, где не возьмешь перо в руки) иногда действует на писателя как катализатор творчества. Пушкин в Михайловской ссылке был необыкновенно продуктивен: вряд ли он написал бы столько же, ведя светскую жизнь в Петербурге. Так что потомкам Пушкина, быть может, надо выразить благодарность Александру I за ссылку, а не Николаю I за дозволение вернуться в Петербург.
Советские ссылки — не чета царским. Однако если не отнята возможность думать, если дозволено иметь перо и бумагу — то человек пишет. Мандельштам в Воронеже за три года написал около ста стихотворений, и тот ли был бы Мандельштам без «Воронежских тетрадей»?
В «Диалогах с Иосифом Бродским» Соломон Волков задает неосторожный, на мой взгляд, вопрос о периоде ссылки Иосифа Бродского: «А стихи вы там писали?» Неосторожный, потому что ко времени этих «диалогов» уже было немало сказано о расцвете таланта Бродского именно в ссылке. Но тот спокойно отвечает: «Довольно много. Но ведь там и делать было больше нечего (курсив мой. — А. Л. ) . И вообще, это был, как я сейчас вспоминаю, один из лучших периодов в моей жизни. Бывали и не хуже, но лучше — пожалуй, не было».
Так что майор Кручинин имел некоторые основания ожидать, что Привольск-218 станет для его подопечных если не Михайловским, так Воронежем или селом Норенское, где некогда снисходительно посматривали на тунеядца Бродского, а теперь гордятся им.
«Вы здесь для того, чтобы, не мешая ни себе, ни другим, заниматься своим прямым делом — творчеством. Причем, заметьте, свободным и бесцензурным», — втолковывает майор Кручинин недовольному диссиденту.
Да и писатель солидарен с майором, играющим в романе скорее роль резонера, в то время как диссиденты — фигуры комические. Майор недоумевает: почему вместо творчества привольчане занимаются одними склоками и если что и пишут, так доносы друг на друга? Ведь никто не мешает прозаику Ревякину, объявившему о намерении создать антисоветский роман, и в самом деле работать над ним, но все ограничивается главой «Детство антихриста» — о детстве Ленина, позаимствованной из разных источников. Никто не мешает поэтам писать свои стихи, художникам — рисовать абстрактные полотна, скульптору — сооружать монумент, посвященный жертвам коммунизма, бардам — сочинять песни, драматургам — пьесы, а всем вместе — выпускать газету, для которой неутомимый Кручинин раздобыл даже портативный печатный станок.
По Бенигсену получается так, что единственным содержанием творчества диссидентов был антисоветский пафос, громко резонирующий в условиях режима, чутко на него реагирующего. И когда возникла ситуация, потребовавшая от диссидентов творческой самореализации, оказалось, что тем нечего сказать, что антисоветский пафос полностью исчерпывал смысл их творчества.
Все содержащееся в этих людях творческое начало ушло в создание мифа о собственной судьбе. Сначала они потребовали от майора Кручинина ужесточить режим, чем немало озадачили либерального кагэбэшника.
Это одна из самых остроумных сцен романа: комический эффект возникает от гротескной перемены ролей: ссыльные диссиденты хотят, чтоб им как можно больше запретили, а кагэбэшник отстаивает либеральные порядки. Вообще, Бенигсен любит этот прием, и в самом деле создающий комический эффект, но все же стирающийся от частого употребления. Так, если в кабинет майора Кручинина войдет субъект с длинной бородой и чем-то вроде лаптей на ногах и потребует оградить его и других простых людей от сионистской вакханалии, что творится в театре и газете, можно быть уверенным, что человек этот окажется евреем и звать его будут Лев Моисеевич. Если привольчане требуют ужесточить режим, то озвучивать эти требования, конечно же, будет правозащитник Ледяхин, и его привычная риторика насчет прав человека в этом «людоедском государстве» войдет в комическое противоречие с самими требованиями, которые права человека как раз нарушают: переселить ссыльных из отдельных квартир в бараки, ввести шмон, утреннюю побудку и вечерний отбой (проект рельса уже изготовлен художником-диссидентом), оборудовать карцер, переодеть всех в униформу, установить вышки с прожекторами и вооруженной охраной и построить небольшой крематорий.
Майор не знает, смеяться ему или ужасаться, игра это — или какой-то странный русский мазохизм. Разумеется, правозащитнику в его требованиях отказано.
Но напрасно майор недооценивает опасность, которую таит мифотворческая энергия диссидентов. «Детский сад», — плюется он с досадой, обнаружив у своих подопечных целую пачку фотографий мнимых лагерников в робах и бушлатах, с нашитыми на телогрейки номерами, снабженных на обороте насквозь лживыми надписями: один, мол, волочит бревно якобы на лесоповале, другой лежит на снегу, затравленный собаками охранников (что не совсем согласуется с видом дружелюбной дворняжки, приглашенной на роль овчарки), третий висит на колючей проволоке, якобы убитый током, а венцом всего выступает фотография людей, стоящих у стены в одном исподнем, с подписью: «Перед фиктивным расстрелом (известная психологическая пытка работников ЧК)».
Не прав майор — это не детский сад и не театр, не игры в лагерь (хотя автомат у мнимого вертухая и вырезан из дерева по эскизу художника-авангардиста, на сей раз не побрезговавшего создать реалистически достоверный художественный объект). Деревянный автомат в конце концов превратится в настоящий и выстрелит ему в спину.
Когда в марте 1986-го Кручинин объявит об отмене закрытого режима в Привольске-218 и предложит привольчанам разъезжаться кто куда хочет (впрочем, с обжитых квартир их никто не гонит — добавляет майор, уловив недовольство), бывшие диссиденты уже изнутри, сами, закроют только что открытый город, разоружат немногочисленную охрану и станут стеречь массивные железные ворота усерднее, чем солдаты-срочники.
Замечу, что этот поворот сюжета никак не обоснован. Требовать логики от абсурда, конечно, невозможно, однако внутри абсурдного сюжета все же должна присутствовать своя логика. Если сначала писатель комически изображает диссидентов, перессорившихся друг с другом и засыпавших доносами друг на друга коменданта Привольска, то как эти люди, ни в чем не согласные друг с другом, придут к общему решению по такому важному вопросу? Тут уж что-нибудь одно: или диссиденты — сплоченные единомышленники (и тогда принимают общее решение), или ненавидящие друг друга склочники (и тогда они никогда не договорятся).
Но как бы то ни было, автор — хозяин своему сюжету, по ходу которого бывший комендант лагеря оказывается пленником, и ему ничего не остается, как попытаться присоединиться к неутомимому Блюменцвейгу, решившему бежать — по законам лагерной романтики — через земляной подкоп.
Однако не забудем про излюбленный прием автора — менять персонажей ролями. Диссиденты, оказывается, не хуже кагэбэшников умеют проводить следствие, раскалывать подследственных и пресекать побеги: у выхода из подкопа Блюменцвайга с Кручининым поджидает группа с автоматами, и правозащитники не побоятся пустить их в дело. Блюменцвайгу, впрочем, удастся избежать неумелой автоматной очереди и скрыться, Кручинина же убьют.
Это не помешает самоизолировавшимся привольчанам соорудить миф о героях — Якове Блюменцвейге, бежавшем из советского концлагеря, и коменданте, перешедшем на сторону узников и убитом охраной, назвать их именами две улицы города (а других и нету) и соорудить помпезный мемориал из бронзы. Надо ли добавлять, что все некогда изумившие майора фальшивые фотографии красуются на стендах музея, сооруженного привольчанами, которым приятнее чувствовать себя затравленными, измученными голодом и лишениями узниками страшного концлагеря, чем жителями закрытого городка с привилегированным снабжением, оказавшимися творчески бесплодными. (Вспомним стенд с местными героями-пионерами, героически боровшимися с фашистами в тех в местах, где, как установил библиотекарь Пахомов из романа «ГенАцид», никаких немцев и в помине не было.)
Итак, писатель в очередной раз доказал свою любимую мысль (некогда отданную библиотекарю Пахомову), что история — вереница непроверенных фактов, а все, что сверху, — это миф и идеология.
«Многие не вынесли горьких испытаний, голода и издевательств. Знал бы ты, скольких умерших товарищей я вот этими вот руками зарыл в землю. Скольких выходил на жестких нарах в холодных бараках», — рассказывает, чуть не всхлипывая, один из лидеров привольчан своему старом другу Максиму Терещенко о концлагере «Привольск-218» и о том, почему узники концлагеря не хотят покидать место своего заключения. «Мы — свидетели истории».