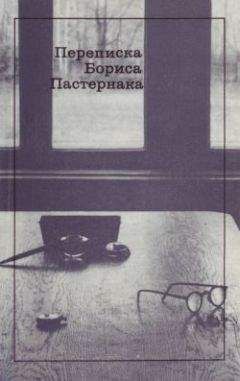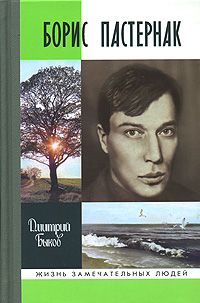Сталин на заседании политбюро, объясняя, что надо делать с космополитами, испытывает приступ дурноты, произносит несколько бессвязных слов, а стенографистка их фиксирует. Получается, что коспомолитов надо «пзхфчщ». Никто не решается переспросить вождя, и в кратчайшие сроки бессмысленный лозунг охватывает всю страну («ПЗХФЧЩ!») [3] . Анекдот на первый взгляд совершенно советский, обыгрывающий абсурд безраздельной власти. Однако выстроен он по модели исторических анекдотов, в которых случайное слово или распоряжение монарха в сочетании с чрезмерной почтительностью и трусостью слуг приводит к трагикомическим результатам. Сравним хотя бы с историческим анекдотом про Екатерину Великую, которая поставила солдата в Летнем саду охранять первый весенний цветок, о чем тут же забыла, а распоряжение ее никто не решился отменить: сюжет этот интересовал в свое время Всеволода Гаршина, задумавшего рассказ именно об абсурдности русской жизни, которую диктует самовластие. Отголоски этого исторического анекдота можно обнаружить и в «Чонкине» Войновича, где солдат неукоснительно исполняет распоряжение охранять самолет, о котором само начальство давно забыло.
Другой рассказ из той же публикации в «Знамени», не случайно объединенный с предыдущим шапкой «Русский диптих», тоже основан на анекдоте, точнее, на искусном сопряжении двух анекдотических сюжетов. Первый — крушение планов чеченских террористов из-за русского хаоса: тщательно рассчитанный маршрут простака-связного, везущего бомбу, нарушает то отмененная электричка, то бесшабашный шофер, в результате чего курьер никак не может добраться до Москвы. Другой анекдотический сюжет — абсурдная реакция русских мужиков из депрессивного поселка на разоблаченного террориста: вместо того чтобы повязать его, сдать властям, мужики относятся к террористу вполне дружелюбно и, завладев бомбой и нечаянно включив часовой механизм, начинают думать, что бы им такое взорвать.
В небольшом эссе о Гоголе [4] Бенигсен ставит в заслугу великому писателю то, что «мистика и абсурд у Гоголя вплетаются в „нормальную” реальность с такой естественностью и стремительностью, что невольно ставят под сомнение „нормальность” этой реальности». Бенигсен, несомненно, продолжатель гоголевской линии в русской литературе и вполне осознанно добивается такого сочетания реальности и абсурда, чтобы у читателя возникло сомнение в нормальности самой реальности. В рассказах это удается: они полны иронии, изобилуют остроумными диалогами и смешными поворотами сюжета. С романами дело обстоит сложнее.
Почти все, кто писал о Бенигсене, обращали внимание на то, что он работает с расхожими мифами. «На исходе нулевых в русской литературе появился прозаик, умеющий внятно пересказывать обществу им же самим порожденные мифы», — пишет Вадим Муратханов [5] .Большинство считает, что эти мифы так или иначе подвергаются деконструкции, хотя случалось писателю и получать обвинения (на мой взгляд — довольно курьезные) в культивировании этих мифов. Так, Сергей Беляков пишет в связи с романом «Раяд» (М., 2010): «Всеволод Бенигсен продолжает конструировать и пестовать либеральный миф о национальной нетерпимости русских, о бесчисленных и безжалостных скинхедах» [6] . Хотя в действительности все обстоит с точностью до наоборот: идея национальной исключительности не культивируется, а подвергается испытанию.
Другое дело, что, пытаясь разрушить, осмеять порожденные обществом мифы с помощью гротеска, обнажая их абсурд, Бенигсен, как точно замечает Марк Липовецкий, не столько подрывает те «бинарные оппозиции, на которых строятся все глобальные идеологии, все мифологические конструкции», сколько создает новые, гибридные абстракции. Новые идеологемы.
Мифов, с которыми работает Бенигсен, общество создало не так уж и много — соответственно и число излюбленных писателем идеологем ограничено, при этом они повторяются из романа в роман.
Уже в первом романе Всеволода Бенигсена «ГенАцид» содержится в зародыше идея двух следующих романов: «Раяд» и «ВИТЧ». Историк Андрей Пахомов, написавший дерзкий диплом об истории как цепи нелепых случайностей под довольно туманным названием «Центростремительная сила хаоса и его мифотворческая логика», на практике убеждается, что любая попытка придать природному хаосу «осмысленность и порядок» приводит к катастрофическому результату. Нельзя сказать, правда, что в самом романе «ГенАцид» эта мысль была центральной. Природного Хаоса в Больших Ущерах, разумеется, хватает, но безумный эксперимент с насильственной прививкой большеущерцам русской классики в рамках осуществления Генеральной Национальной Идеи (сокращенно ГЕНАЦИД) никак не назовешь попыткой упорядочивания. Зато в «Раяде» такая попытка осуществлена.
В одном из районов Москвы претворен в реальность лозунг «Россия для русских». Кавказцев и азиатов из района вытеснили, в результате чего улицы освободились от уродливых палаток и мусора, подъезды засияли чистотой, преступность исчезла, в магазинах воцарились умеренные цены, в больницах — внимательность и вежливость, а в школах — преподавание патриотизма. Но порядок этот — доказывает автор — таит в себе опасность, что подтверждает история мифического славянского народа раядов, жившего на территории Москвы. Раяды процветали, пока были открытым сообществом, и погибли, когда искоренили всех иноплеменников. «В России нельзя трогать беспорядок. Этот беспорядок священен — он творческий!» — приходит к выводу ученый, изучавший историю Раяд.
Оставим на совести автора и причудам писательского воображения образцовый порядок на русской территории, однако отметим, что он не просто сомнителен, но вступает в противоречие с тезисом об имманентности национального беспорядка русскому менталитету. Но автору важны не детали — ему важно вывести идеологическую формулу: самоизоляция губительна для нации.
Чистоту этой формулы, правда, в «Раяде» затемняет довольно банальная детективная интрига: за энергичным всплеском русского национализма и погромными акциями туповатых подростков, оказывается, стоит олигарх, за бесценок скупающий освободившиеся квартиры в районе и уже разинувший рот на лакомый кусок земли с рестораном «Кавказ».
Впрочем, роман портит не только этот — типично масскультовый — сюжетный ход: все объяснить злой волей плохого человека или группы плохих людей, над которыми одержит победу если не добро, то по крайней мере привычный, несовершенный, но родной уклад. Сама мифология русского национализма слишком заезжена, и Бенигсен невольно попадает в протоптанный след. Читателю с самого начала ясно, что перед ним развертывается несложная теорема, где предложена система доказательств от противного. Меж тем жизнь вносит стремительные коррективы в теорему, показывая то картинки с Манежной площади, то груду цветов на месте убийства Буданова, которые никак не объяснишь злой волей людей, скупающих недвижимость.
Однако обратимся к другой идее библиотекаря Пахомова, погибшего от рук односельчан, «что история — это всего лишь вереница плохо проверенных фактов, а все, что сверху, — это миф и идеология». «Если архитекторы храма Василия Блаженного не были ослеплены, Сусанин не заводил поляков в лес и не отдавал „жизнь за царя”, Чапаев не тонул, героически гребя одной рукой, а просто умер на плоту во время переправы, Каплан не стреляла в Ленина, а Крюков не кричал „Отступать некуда — позади Москва”, то куда девать историко-культурную память, которая этими легендами живет?» — рассуждает Пахомов.
Посланный в село Большие Ущеры для детализации некоторых моментов, связанных с историей Великой Отечественной войны, Пахомов быстро обнаруживает, что немцы «отродясь не проходили через Большие Ущеры и вообще никаких военных действий в радиусе ста километров не вели». Что совсем не мешает наличию военно-исторического уголка в местной библиотеке, где висят портреты местных пионеров-героев с рассказами об их подвигах, при ближайшем рассмотрении довольно бессмысленных: логика у творцов мифов явно хромает. Ну зачем, к примеру, пытаться угонять пионеру немецкий танк, который он не умеет водить? Снимать стенд Пахомов, однако, не спешит: бессмысленный с краеведческой точки зрения, стенд являет собой «памятник советского мифотворчества».
Вот о механизмах советского (а также антисоветского) исторического мифотворчества, что, по концепции автора, две стороны одной медали, — и пойдет речь в романе «ВИТЧ».
Название, естественно, ассоциируется с грозной (и тоже мифологизированной) болезнью, однако расшифровывается как «вирус иммунодефицита талантливого человека». Или творческого — добавляет изобретатель термина Яков Блюменцвейг. Он еще не решил. Однако, похоже, и сам диагност и обличитель ВИТЧа страдает от отсутствия таланта: отсюда его неугомонные политические и эстетические провокации, необходимость постоянно доказывать себе и другим наличие творческого потенциала.