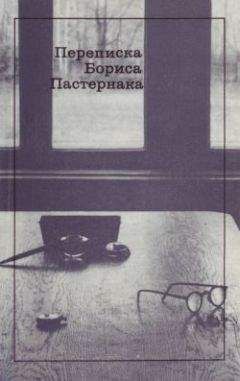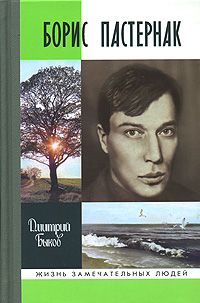«Лжесвидетели», — усмехается автор. И слова ваши ничего не значат, и пафос ваш фальшив, и документы ваши ничего не стоят (постановочные фотографии), и колючая проволока, и разрушенные бараки, и останки крематория: все — мифотворчество.
Тут есть над чем посмеяться и есть над чем задуматься. Советская история действительно полна мифов, официальных и либеральных. Какое-то время официальные было принято разоблачать, а либеральные — культивировать. Теперь другая мода. Я вовсе не против деконструкции мифа о диссидентах: он того стоит. Сюжет с самоизоляцией недавних узников сам по себе остроумен и смел. Пусть ничего подобного в жизни не могло произойти, в этом сюжете в гротескной форме схвачено нечто существенное: сектантский характер нашего диссидентства, замкнутость и подозрительность, ощущение избранности, преувеличение собственной роли, культивирование мифа о собственной судьбе.
Но то, как это сделано у Бенигсена, порождает вопрос: а не предлагается ли вместо мифа о кровавом КГБ и героических диссидентах миф о либеральном КГБ, попечительски заботящемся о творческих людях, и вздорных противниках режима, скрывающих под маской диссидентства свое творческое бесплодие? И чем один миф лучше другого?
Итальянский путь
«Р и м с о в п а л с п р е д с т а в л е н ь е м о Р и м е...» Италия в зеркале стипендиатов Фонда памяти Иосифа Бродского / Joseph Brodsky Memorial Fellowship Fund (2000 — 2008). М., «Новое литературное обозрение», 2010, 336 cтр.
мы стихи возвели через силу
как рабы адриановы рим
Алексей Цветков, «Эдем»
«Италия была для русских откровением. Ныне она может стать источником их возрождения», — писал Иосиф Бродский мэру Рима, после падения «железного занавеса» увлекшись не на шутку проектом создания Русской академии в Риме (по примеру давно существующих Французской, Американской и др.). Вроде бы знали мы главное про Италию, учили в школе, а читали сколько (и про «откровение» тоже), но Италия книг и музеев наше самосознание не перевертывала. Потребовалась очная ставка с подлинником, чтобы включился свет подсознания: Средиземноморье — наша большая родина, связанная с «малой», как родители с детьми. Большой взрыв индивидуальной вселенной нельзя не пережить, путешествуя по Италии, а уж если там задержаться и пожить... Вечный город становится вечным домом, возвращаешься в Рим, как домой. Особое чувство Рима — установленный исторический факт, самыми разными судьбами «перемещенные лица» его подтверждали, и Бродский с неменьшим энтузиазмом. А в его мечте о Русской академии, работе над этим проектом, прерванной смертью и пока доведенной его единомышленниками до стадии Фонда, прорезывается чувство к России , в возрождение которой он хотел внести свою лепту, веря, что чем больше людей откопают итальянскую половину своего культурного дома, тем менее бездомно Россия будет себя чувствовать в Европе, тем устойчивее и уютнее будет российский дом. «Я был в Риме. Был залит светом. Так, / как только может мечтать обломок! / На сетчатке моей — золотой пятак. / Хватит на всю длину потемок». Вечный тыл человека в войне со своей смертностью — искусство, культура — имеет в «Римских элегиях» (и в венецианских стихах) редчайший в поэтическом ландшафте Бродского цвет золота.
В стихах первого стипендиата Фонда (2000) Тимура Кибирова «Рим совпал с представленьем о Риме...» грандиозный культурный миф совпал с реальностью — нечастое событие эстетического плана человеческой жизни. И не высшая ли это оценка, которую мог дать поэт? Нет, от поэта мы ожидаем его собственный миф; да, если поэт отказывается быть поэтом, возвращается к себе-человеку. Что и делает Кибиров: «Тыщи лет он уже обходился / без меня, обойдется и впредь. / Я почти говорить разучился, / научился любить и глазеть. / В полудетском и хрупком величье / Рим позирует мне, но прости — / он не литературогеничен. / Как и вся эта жизнь. Как и ты». Достойным образом отшутившись от домашнего задания (сочинение на итальянскую тему) — факультативного, конечно, ибо задание пригласивших в Рим одно: жить, «глазеть», писать стихи не из-под палки, — Кибиров меняет тему. Лирический цикл «Sfiga» («Невезуха») сфокусирован на разлуке с московской дамой сердца, но ревновать у «Италии» к «Наталии» оснований нет: стихи бедные, и самой щедрой наградой Италии за такие стихи было бы признать за ними уважаемое в итальянской словесности свойство со времен писателя Кастильоне (1478 — 1529): «...высказывать во всем своего рода раскованность (sprezzatura), которая бы скрывала искусство и являла то, что делается и говорится, совершаемым без труда и словно бы без раздумывания» [1] . Sprezzatura-спреццатура в свое время пришлась по душе другому русскому поэту, о чем подробно написал современный русский римлянин Алексей Букалов в «Пушкинской Италии». Возможно, без пушкинской спреццатуры не было бы и кибировской — и не в одной лишь «Невезухе».
На спреццатуру сознательно или интуитивно равнялся и Владимир Строчков. Помимо раскованности, доходящей у Строчкова, по собственному его признанию, до автоматического письма, есть еще одна общая с Кибировым черта, легко догадаться какая, только цитатность у Строчкова погуще будет. Строчков, однако, неповторим, когда, отдаваясь своей склонности к языковым играм, подключает английский и итальянский языки. Спонтанные переходы на italiano оправдывает важный для обрисовки эмоционального состояния поэта сюжет-сон в «Коктейле Больяско»: римская Волчица, в комплекте с Ромулом и Ремом, спит в «медвежьих» объятиях русского поэта и питает его молоком латыни. «И вот любовь слепая, / как волчье молоко, цедится под рукой, / ползет по языку и, омывая нёбо, / расходится в крови опаловой волной / и, растворив собой урсусливую [2] злобу, / уводит на латынь „любимый” и „родной”. // И больше не понять, che lingua e materna [3] ...». Далее — везде, итальянский забивает «родной». В более прозаические сюжеты подмешивается английский. Относятся ли многоязычные «коктейли» Строчкова к поэзии или постпоэзии? Что такое постпоэзия ? Термин сейчас используется в двух смыслах: подразумевается или нетрадиционная техника стиха (визуальность, вставки прозы, научных формул, компьютерной параферналии, иностранного языка и т. п.), или результат применения подобной техники (вовсе не неизбежный) — утрата скрытой ритуальной функции поэзии: подтвердить «гармонии таинственную власть», притом что тайна этой власти не обязана быть «неземной». Не признавать эту власть или не считаться с ней, очиститься от магии стихотворчества — значит и быть постпоэтом — что не плохо и не хорошо: просто иная деятельность, ближе к работе с прозой; постпоэзия sub = /sub протопроза. Строчков остается поэтом в своих языковых играх хотя бы потому, что его просодии традиционны, высказывания неистово лиричны; лакуны стиховой «воды» в его итальянских «коктейлях», на мой вкус, имеются, но его «коктейли» магичны, а «вода»... она определяет лишь концентрацию как поэзии, так и постпоэзии в стихотворном продукте.
«Стихи, написанные в Италии» Сергея Стратановского дадут передышку от спреццатуры и еще раз подтвердят правоту тех, кто убежден, что положительные эмоции менее плодотворны для поэта, чем отрицательные:
Красоты концентрация —
это — Флоренция. Улицы
И дворцы ее строгие,
и сады на холмах, и мосты
И собор великий,
и статуи, и картины
Все — Красота.
Мир она не спасет,
И тревогу души искореженной
Вероятно, не вылечит,
Но все же поможет, встряхнет...
Выпрямит, как говорили когда-то.
К социальным и антропологическим катастрофам, своей основной теме, язык Стратановского нашел путь на грани фола, на грани падения поэзии в постпоэзию, протопрозу. Язык его, однако, оказался не готовым выразить антропологический праздник.
К чему всегда была готова Елена Шварц. Надо только отметить, что этот поэт умел праздновать и катастрофы (за пределами социальности — это тоже надо уточнить). Профессор русской литературы Клаудиа Скандура в своей вступительной статье справедливо замечает о Елене Шварц: «Она не претворяет мир в слово, а пересотворяет его». В стихах подобной интенции из «Римской тетради» наиболее завораживающе звучит наименее пересотворяющий мир (Рим) — странно ли? — текст «У Пантеона» с его ровным, балладным ритмом (редким для ломкой музыки Елены Шварц) и образностью изысканной, но льнущей к поверхности объекта описания: «Площадь, там, где Пантеона / Лиловеет круглый бок, / Как гиганта мощный череп, / Как мигреневый висок. / Где мулаты разносили / Розы мокрые и сок — / Там на дельфинят лукавых / Я смотрела и ушла / В сумрак странный Пантеона, / Прямо вглубь его чела. // Неба тихое кипенье / В смутном солнце января — / Надо мною голубела / Пантеонова дыра, / Будто голый глаз циклопа, / Днем он синий, вечерами / Он туманится, ночами / Звезд толчет седой песок. / <...> / И в мгновенном просветленье / Назвала его благим — / Это равнодушье Рима / Ко всему, что не есть Рим».