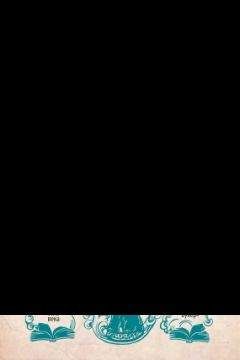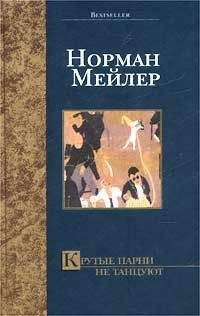Насколько нам помогло это разъятие мира, судить не берусь: на одной чаше весов оказались три безупречности (Бог-отец, Бог-сын, Святой Дух), на другой — три заведомых несовершенства (человеческий разум, тело, душа). Несомненно одно: невзирая на сей перекос, весы устояли. Как бы мы ни играли гирьками с риском нарушить баланс, он все еще держит, хотя и на самом пределе, подобие неравновесного равновесия. Отречение от Бога, проповедуемое вольнодумцами, мало что изменило. Атеизм — это Средневековье, только наоборот: та же религия догм и ортодоксальных доктрин, с той лишь разницей, что ставит на место распятия крест своего же отчаяния. Костяк креста тот же — измена и страх. Боязнь признаться, что человек расчленен и в одиночку вряд ли что может, пока не вернет себе целостность, которая — так уж учинено — много больше, чем человек“.
Долгое время я пыталась взрастить в своем сердце любовь, рассудив, что отдаться кому-то в слепом порыве надежды, „просто так“, означало бы потерпеть неминуемый крах: на благосклонность души рассчитывать не приходилось. Если она не потворствует мне в одиночестве запертой спальни, какие есть основания полагать, что она пойдет у малоимущего тела на поводу в тот самый момент, когда оно предстанет в застенчивой робости перед кем-то чужим? Коли нельзя расстаться с невинностью иначе, как забеременев ею (влюбиться), — что ж, я готова…
Однако потуги найти подходящий объект успехом не увенчались. Думаю, ясно, из-за чего: сыграла роль моя увлеченность искусством. Оковы эстетики, которые в так называемой „жизни“ почти бесполезны и ловят всегда пустоту. Так я стала писать свои письма, обратив взор на тех, кто творил красоту, в знакомстве с которой я себя повторяла. Чистый лист меня не пугал — в отличие от Малларме, кому я адресовала первое из посланий. Возможно, в этом есть свой трагический смысл — бояться того, что ты созидаешь и чего прежде не было. Определенного рода божественный стыд, коего я была лишена, ведь я „не распахивала окно“ ни в какое „неведомое“. В чем-то даже напротив: флиртуя кокетством суждений, я словно пыталась найти за неведомым и второе окно да еще и как можно звучнее им хлопнуть. Своим жестом я лишь хотела призвать их двигаться дальше — к вечной сущности, отделенной больничным стеклом. Ударить рамою так, чтобы это стекло рассыпалось мелким дождем нам под ноги…
Окрыленная первым опытом эпистолярных занятий (Малларме мне ответил прелестным письмом! Оно начиналось таким обращением: „Предлунная птица заката…“ Мне, не скрою, понравилось), я осмелела и бросилась в водоворот лучшей из всех совершенных бесед — когда говоришь все что хочешь тому, кого узнаёшь не в лицо, а по походке его вдохновения. Я писала лишь тем, кто был мне духовной родней, в том числе — родней нелюбимой. Я писала Верлену, Лотреку, Мирбо, Гуго Вольфу, Делибу, Сен-Сансу, Малеру, Штраусу, Конраду, Элеоноре Дузе, Ницше и Саломе, Саре Бернар и Рихарду Вагнеру, Кюри и Блаватской, Уайльду и Бердсли, Толстому и Чехову, Метерлинку, Верхарну, Киплингу, Твену, Ибсену, Гольцу и Шлафу, Гонкурам, Георге, Золя, Мопассану, Родену, Пенроузу, Рильке, Гофмансталю, Фабьену, Гауптману, Гамсуну, Скрябину, Горчакову… Господи, кому только я не писала за эту дюжину лет! Всех не перечесть. Да еще продолжала вести свой дневник. Иногда в нем встречаются и любопытные вещи.
Вот, послушайте этот фрагмент:
„Делать ставку на разум — все равно что дробиться и дальше, отступаясь от собственных снов, усекая подспудность желаний, хватая за горло инстинкт, куя кандалы для своей интуиции. Объяснить возможно лишь то, что уже поймано мыслью и остановлено ею на границе мгновенья и времени. А как быть с тем, что находится на другом рубеже — там, где время вливается в вечность? Где они неразрывно текут, вплетаясь друг в друга, как бурливое море — в безразличный к сумятице волн океан, ручей — в реку, слух — в безмолвие, крылья — в полет, душа — в чувство, мысль — в безумие, озарение — в пустоту?.. Здесь никогда не построить надежной плотины.
Уповать на душу — риск не меньший: она сторонится вопросов, бежит одинаково яркого света и тьмы. Из-за этой пугливости большинству из нас легче ее потерять, чем найти. Все, что нам нужно, — уберечь ее от соблазна зарыться поглубже в песок наших страхов. И все же душа есть душа: единственный, хотя и почти эфемерный, залог, под который наша бренность усердствует получить хоть какую-то ссуду под слепую загробную жизнь.
Что до тела — оно уязвимо хотя бы уж тем, что содержит в себе две других уязвимости. К тому же сосуд этот недолговечен. Проще простого его изувечить, испортить, разбить. Склонность к уродству проявляется даже в его красоте: время мстит телу за былую гордыню неприметно подкравшейся старостью. Плоть вожделенна для нас до тех пор, покуда не станет обузой — тем более тяжкой, что цепляемся мы за нее до самой последней черты. Каждый вдох отмерен заранее выдохом — красноречивым жестом конца. Тело — изворотливый хваткий торговец, чья прибыль, однако, какой бы огромной она ни была, никогда не покроет убытков. Потому-то оно и честнее всего: оно голодно, хочет, неволит, понукает, жаждет, торопится жить. Тело взывает всегда к наслажденью. Отвага его нас коробит, но, к нашей вящей отраде, она же, отвага, нас покоряет. Нам слишком приятно быть в этом плену, чтобы мы расточали себя на борьбу с зовом плоти. Быть немного животными — это ль не счастье?! Однако опасность подстерегает и здесь: быть немного животными трудно. Так недолго и озвереть. Для пугливой души в этом есть угроза грехопадения. Да, тело греховно само по себе. Не оттого ли, что слишком невинно в своем устремлении к радостям?..
Итак, три людских ипостаси: тело, разум, душа. Три объекта для наших предательств. Вопрос заключается в том, чем пожертвовать и — в пользу чего?
Я вот все думаю: нельзя ли попробовать, наконец, повернуться к жертвеннику спиной, а если надо, то прежде его и разрушить?“
Мастерство литератора — в точке: то, что предшествует ей, должно быть намертво связано с тем, что за ней. Преуспеть в этом умении мне так и не довелось. То, что я говорю, кажется слишком разрозненным, путаным и неуклюжим. Я могла бы списать это на волненье: в самом деле, довольно непросто объяснить, почему я решилась на то, что, похоже, теперь неизбежно. Какое жестокое, верное слово — „неизбежно“ (прямо мурашки по коже). От него я бежала множество раз, назначая свиданье судьбе… Ох, последнее слово все портит: я не верю в судьбу, если только она не является тем, что мы сами себе назначаем. Обязательство выбрать неотвратимость. Не его ли и подразумевает свобода?..
Этот выбор откладывала я, как могла. На что-то надеялась? Вряд ли. Поначалу мне представлялось все это игрою: заманить, добиться изобличающих со-влечение признаний, медлить, томить ожиданием, предвосхищать откровенностью дерзких причуд, распалять желанье и страсть, условиться даже о встрече, но в последний момент увильнуть, отвергая уже занесенный венец, — внести свою лепту в предательство.
В старой легенде про Александра Македонского рассказывается, как он, завоевав восточную страну, велел в честь победы построить триумфальную арку и расписать ее стены. Два художника, соревнуясь в мастерстве, приступили к работе. Когда она была завершена и сняли завесу, предстала удивительная картина: обе стороны арки были расписаны тончайшим кружевным узором, причем он в точности повторялся, несмотря на то что оба художника все время были разделены надежной перегородкой. Великий Александр разгадал тайну арки: один из умельцев так отшлифовал камень на своей стене, что превратил его в зеркальную поверхность, повторившую рисунок соперника.
Я устала быть этой зеркальной стеной. Устала себя повторять. Мне нужен язык, но — свой, как у тех, кем я восхищаюсь и кого вместе с тем проклинаю. Не имея таланта писать, ваять и звучать, я могу изъясниться лишь тем, что имею. А имею я только себя и в себе — ту невинность, которая мне так мешает. Мешает раскрыться вовне (а разве не в этой потребности отличие нас от мужчин, которые лишь замыкают?). Как стать больше себя, не пожертвовав всем, что в тебе? Как уйти от всех этих cogitoergosumи мыслящих тростников, засыхающих на ветру столь холодного к их озарениям времени? Вернуться к сократовскому „знаю, что ничего не знаю“? А дальше? Снова пытаться узнать? Это мы уже проходили. Поверить Уайльду, приняв парадокс, что жизнь только вторит искусству? Но что это даст? Тем более мысль не нова: сам Уайльд здесь повторяет Вергилия. Повторяю и я: я не хочу повторять.
Лучше опять полистаю дневник:
„Ущербность нашей культуры — в приятии расчленения мира и человека, которое, как клеймо, метит не только каждую книгу, ноту иль полотно, но и самые смелые из гениальных творений — эти абсолютные сироты вдохновения, взращенные на той же скудной ниве божественной измены. Не нужно особенно вглядываться в перспективу этого пейзажа, чтобы заметить на горизонте сгущающийся мрак. Он подступает со всех сторон: все сложное как будто бы уже объяснено и навевает скуку; душа выпотрошена и висит на виду, как пойманный светом упырь, на потеху зевакам; тело почти что оправдано и прощено, но, поскольку в том не нуждалось, оказалось пригвождено к позорному столбу снисхождения. В воздухе слышится запах иронии — этого неизменного спутника презревших честолюбие пораженцев, окруженных оскольчатым звоном зеркал.