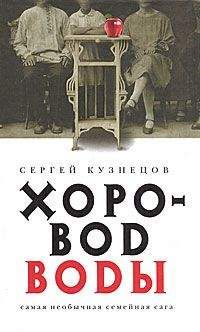Андрюша некоторое время смотрит ей вслед, а потом начинает рыдать.
На косогоре девочки расстелили полосатое покрывало, уселись, смотрят на железную дорогу.
Сначала поезд дальнего следования, весь в дыму, без остановки, в далекие края, в города, где они еще не были.
Потом над равниной разносится протяжный гудок, и Света говорит:
– Вот! Это папин поезд.
Она знает: в полтретьего папа проезжает мимо их станции.
Макар тоже знает: в это время на косогоре будут стоять его дети, дочки поднимут Андрюшу повыше, чтобы он тоже увидел, как один за другим проезжают мимо зеленые вагоны электрички. Макар глядит в окно – три фигурки на косогоре почти неразличимы.
Но Макар знает – они там. Ему кажется, он видит, как Марина взмахивает белым платочком.
Минута – и насыпь осталась далеко позади.
Пройдет двадцать пять лет, и выросшие дети разъедутся по разным городам.
А еще через пятнадцать окажется, что города эти – уже в разных странах.
Пока родители были живы, Марина с Андреем раз в год приезжали к Свете в Москву. А теперь только перезваниваются на дни рождения, Восьмое марта, Новый год. У всех свои семьи, свои заботы, да и по телефону – какой разговор? И только иногда постаревшая Света нет-нет да и вспомнит: летний день, насыпь, зеленая электричка, полосатое покрывало, они с Мариной изо всех сил поднимают Андрюшу: Смотри! Смотри! Папин поезд!
Когда Мореухов еще был актуальным художником, он по пьяни забрел в Третьяковскую галерею. В тот день мир был прекрасен. Сердобольный снег падал на город, вечность пахла нефтью, смерть была родиной. В плеере, как легко догадаться, играла «Гражданская оборона». Мореухов остановился перед «Черным квадратом» и не успел даже подумать о голландской акции Бреннера, как его накрыло. Мореухов разглядел мельчайшие оттенки черного, увидел неровности краски, совершенство геометрической фигуры, квадратную открытую дверь, за которой пустота. Как пел Летов: это значит, что он кому-то понадо-понадо-понадобился.
Например – картине, нарисованной без малого сто лет назад.
Мореухов простоял перед «Черным квадратом» до закрытия музея и вышел под сердобольный снег почти протрезвевшим. По молодости он легко трезвел.
Может быть, тогда Мореухов и решил не быть больше художником: нелепо заниматься живописью перед лицом такого абсолюта.
Живописью можно было заниматься только за деньги или для знакомых. Тёлочке на день рождения подарить. Почти месяц Мореухов рисует Лену, он уже рассказал всю свою жизнь, изучил каждую черточку ее лица, а все никак не завершает работу, тянет время, надеется уже не на секс, а на чудо, на какое – сам не знает.
Он рассказывает ей о своих друзьях и своей семье, и иногда ему кажется, это не Лена отвечает ему, а Аня-Эльвира, или ее мама, его мама, его бабушка, иногда – Соня Шпильман, мать его нерожденных детей, или Маша, жена его брата Никиты.
Но в конце концов Лена говорит своим собственным голосом: Все, хватит! – она должна уехать дней на десять, когда вернется – заберет портрет. Скажем, в следующую пятницу.
За три дня Мореухов закончил работу, у него есть неделя на мелкие исправления, а сегодня он сидит с Димоном под московским тополиным пухом, покуривает «Яву», слушает рассказы про жизнь глянцевых журналов, думает: вот и эта история подходит к концу.
Пойдем завтра на Летова в Лужники? – говорит Димон, я на Партер.ру заказал билет в VIP-зону. Помнишь, на втором курсе мы с Виталиком втроем орали «Все идет по плану!». Купил вот mp3-диск Егора на днях, до сих пор отлично слушается, хотя смысл поменялся совершенно. Один дедушка Ленин хороший был вождь, а все остальные – такое говно. Злободневная песня. Революционная.
Мореухов зло втаптывает в пух сигарету. Злободневная песня. Они еще выйдут на очередную «оранжевую революцию» – розовую, голубую, фиолетовую революцию, – распевая: а моей женой накормили толпу. Если хочешь делать революции, нечего работать в глянцевых журналах. Живи тогда честно, от всего откажись, ничего не имей, выброси машину, плеер, компьютер «макинтош» за три тысячи у.е., выброси это говно, а также всякие иные предметы, преврати свою квартиру в помойку и уж тогда строй из себя революционера. Понимание трусости, исчерпание смелости, геология глупости, онкология конформизма.
Ни хуя не пойду я на Летова в «Лужники», говорит он, еще не хватало. Ты послушай, чего говоришь: на Летова в «Лужники»! В VIP-зону! Еще скажи – в Кремлевский Дворец съездов!
Ну как хочешь, обиженно говорит Димон, я тебя не заставляю.
А что такое это твое mp3? – спрашивает Мореухов.
Так Мореухов устроил себе индивидуальный концерт «Гражданской обороны». В пятницу взял батл «Очаковского», Димонов mp3-плеер, добрался до скверика рядом с Новодевичьим, засек по часам начало концерта и поставил диск на случайное воспроизведение.
Когда-то деревня Тропарево принадлежала Новодевичьему монастырю, пишет газета «Округа». Мореухов лежит на спине, глядит в небо и думает: выходит, мы живем на монастырских землях. Тропаревская земля, в которую всем нам нырнуть когда-нибудь.
Тополиный пух валится с неба, в открытый рот влетает пара пушинок, Мореухов запивает их пивом, устраивается поудобней и подпевает: И на все вопросы отвечать «всегда живой!», ой!
В километре от Новодевичьего в полупустом зале «Малых Лужников» преуспевшие нонконформисты и пэтэушная молодежь тоже подпевают: Долгая счастливая жизнь каждому из нас, каждому из нас! Мало кто понимает, что значит «долгая», что значит «счастливая», да и про жизнь каждый думает свое.
А Мореухов приканчивает батл, и с каждым глотком его вставляет все сильнее. Может, я и на самом деле хреновый художник? Может, я прекрасный прозаик, гениальный рассказчик! Вон как Лена меня слушала!
Портрет нарисован, думает он, ну и ладно, пусть все закончится, пусть я ее больше никогда не увижу, мне насрать на мое лицо, да, всем насрать, и Лене, и Димону, и даже маме! На сцене Летов поет: Болванка в танк ударила, и лопнула броня, и мелкими осколками поранило меня. В отличие от лужниковской публики Мореухов когда-то знал эту песню, старая, аутентичная песня: Что же ты, зараза, вместе с танком не сгорел? – но песни на mp3-диске нет, подпеть Мореухов не может. Он швыряет в траву пустую бутылку, поднимается во весь рост, идет к Новодевичьему, смотрит на купола, крестится. Редко же я вспоминаю, что православный, думает он. Зато я умею говорить с Богом. Особенно после бутылки-другой.
Он уже собирается выключать плеер, как вдруг в наушниках начинается: трогательным ножичком пытать свою плоть, трогательным ножичком пытать свою плоть, – и Мореухова накрывает, как много лет тому назад в Третьяковке. Он стоит на патриархальной свалке устаревших понятий, использованных образов и вежливых слов, под стеной монастыря, в нескольких шагах от кладбища, бормочет: Называйте вещи своими именами, сейте разумное, доброе, вечное, – и не знает, что сейчас в «Лужниках» Егор поет ту же песню, и зал начинает подпевать, забыв про VIP-зону, стоимость билетов, возраст, конформизм и нонконформизм. Молодые менты, стоящие в оцеплении, достают мобильные и снимают, как Летов танцует у микрофона, волосы развеваются, будто на дворе восемьдесят девятый, что же такое наследовать землю? Это ли не то, что нам надо? – а Мореухов истошно понимает: монастырская земля, огороженное кладбище, зеленая трава под ногами, набить до отказа собой могилу, тропаревский лесопарк, коробки новостроек – все это и есть русское поле экспериментов, экспериментов, которые никак не прекращаются и не должны прекращаться, не могут прекратиться, пока не воссияет философский камень, Мореухов так и думает воссияет, пока мы не перестанем быть собой, не станем чем-то иным, чем-то большим, да, Господи? – и словно иней сердобольный снег, тополиный пух, пустые колосья, черная копоть сожженных деревень, пух вспоротых подушек, зола крематориев, и снова, снова – сердобольный снег, девять месяцев в году, снова и снова – славно валиться на… на… на…
Длинным рядом за спиной – туфли, туфли, туфли. Потом босоножки. В цветочек, с бисером, с золотом, со стразами. Перед поездкой в отпуск девушки покупают новую обувь – и только потом понимают, что по пляжу удобней ходить во вьетнамках или босиком.
Аня икейно улыбается покупателям, нет-нет да и посмотрит в зеркало – загоревшая, красивая, отдохнувшая.
На самом деле – растерянная. Впервые за пятнадцать лет не знает, как поступить со своим мужчиной.
Пятнадцать лет все было хорошо – встретились-разбежались, переспали, перетерли, пережили. Пятнадцать лет Аня твердо знала, чего хочет: иногда – удержаться на работе, обычно – просто потрахаться. Один раз захотела ребенка – тоже все прошло гладко.