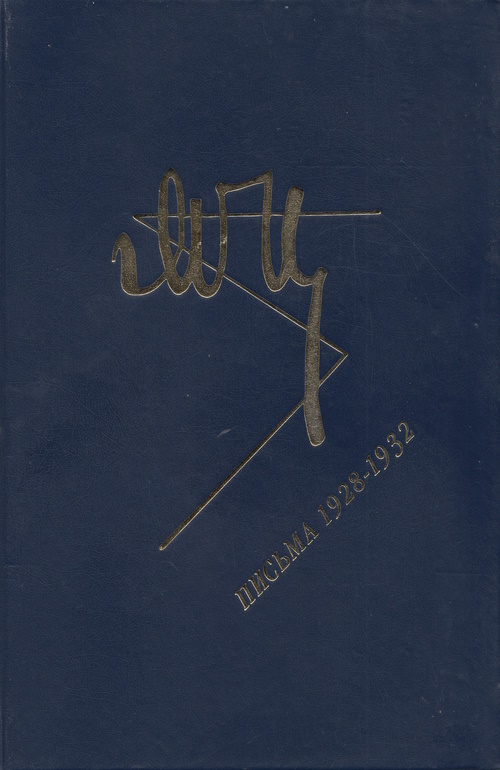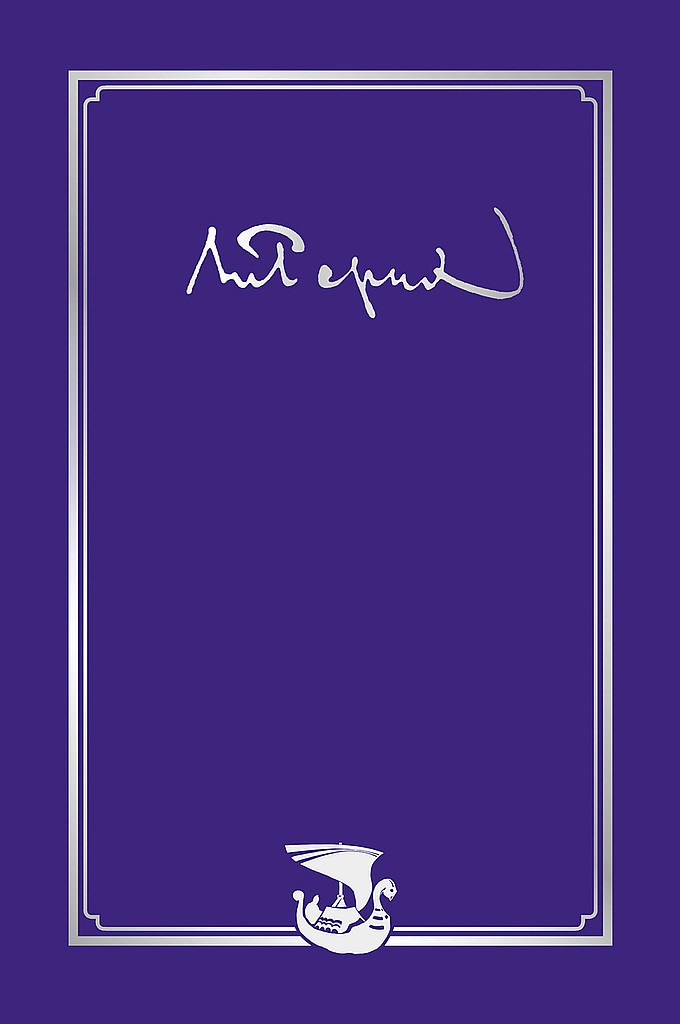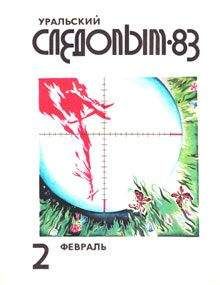В уме возникли стихи. Несколько строчек из них:
Ты затерялся в лабиринте тьмы,
Эдип с потухшими глазами,
Что впереди? Огни какой зари?
Грядущего неведомый глашатай,
Каков ни есть, мститель ли, вожатый,
Явись. Исполни. Умиротвори…
Принесли ли последние события разгадку? Были ли они судным днем, эти 19, 20, 21 августа? Надеюсь – были. Знаю ли? По критерию «неслыханной простоты» – знаю! Тем, кому довелось видеть лица юношей и девушек, сплотившихся на защиту Белого дома, – чистые, открытые, отважные, воодушевленные, – видели лица, озаренные светом «новой и по-новому великой России». Мне памятны, мне знакомы такие вот лица по другому, давно ушедшему времени, по тому времени, которому принадлежат полные надежды и веры слова Блока. Забыть тех юношей и девушек, их лица – просветленные, вдохновенные, дышащие свободой, исполненные решимости? Забыть поколение расстрелянных, сгинувших в лагерях, выкорчеванных до последнего колена? Или согласиться с утверждающими, что «Большой террор», истребивший детей революции, был заслуженным возмездием и, такими образом, исторически оправдан? Ставлю эти вопросы от лица поколения, почти исчезнувшего, милостью судьбы представленного горсткой людей в трехсотмиллионном народе 356. Ставлю эти вопросы перед молодыми поколениями, отвергнувшими новый «старый мир» – общественный строй, именованный социалистическим. Ставлю эти вопросы как напоминание и предупреждение: будьте настороже!
[Вера по самому существу своему идеальна – устремлена] в высь и в даль. И бывает слепа по отношению к реальной действительности, совершенствовать которую призвана. Поясню это простым примером: будучи арестован в апреле 1936 года, я, тогда двадцатипятилетний, вызван был на допрос к следователю, которому предстояло вершить мою судьбу. Это был мой сверстник, мне было знакомо его лицо, примелькавшееся во время прогулок по университетскому коридору в перерывах между лекциями. Он учился на юридическом факультете и лично знакомы мы не были. Первые слова его, следователя, обращенные ко мне, заключенному, были: «Вы учились, но и мы учились». Он олицетворял карающую власть, я – жертву. Ответил ему: «Мы учились не тому, чему вы учились». Это был некто М., не обратил внимания какого он офицерского звания. Жесткое лицо, жесткое (но не жестокое) обращение, в котором не было ни малейшего проявления чувства человечности. Лицо и голос его навсегда запомнил. Лицо было не только жесткое, оно и надменное, холодное, почти неподвижное, каменное. Голос мерный, твердый, без модуляций, как бы отбивающий одни и те же такты, один за другим. Вскоре я отказался давать ему показания и был предоставлен другому следователю. Знаю, что М. отличился по службе, получил орден. Много лет спустя мне рассказали, что судьба М., как и множества других ему подобных, была трагичной. Так, в пределах одного поколения, еще уже – в пределах одного поколения студенчества, формировались разные, противоположные социально-идейные генерации, одна из них смертоносная. Будущим жертвам и в голову не приходило быть настороже. Какие сны снились студентам юридического факультета? Тем из них, которым предстояло нести карательные функции, не знаю. Вполне допускаю, что не кошмарные. В межличностных отношениях доверчивость предпочтительнее подозрительности, даже с риском быть обманутой и испытать горечь разочарования. Это естественная норма отношений, ее можно было бы назвать презумпцией порядочности. Так на поведенчески-бытовом уровне. На уровне общественно-политическом и идейном презумпция эта не только не отменяется, но возрастает в нравственной значимости и силе, но с поправкой: элемент риска в такой системе отношений уже не дело индивида, готового оплатить разочарованием за доверчивость, а угроза общественному делу и для делателей его речь идет уже не о готовности поплатиться разочарованием, а о расплате за убеждения и деятельность. Где-то в неведомом далеке некий М., может статься, вчерашний соратник, скажет на тот или иной другой лад: Вы учились, но и мы учились…
Наше время – время больших перемен, и оно время большой надежды. Время смутное и тревожное. Оно не обрело еще собственного лица, разве что в первоначальном наброске. Его называют революционным, а дни августовские – августовской революцией. Мне представляется как нельзя более своевременным и уместным напомнить о суждении Франца Кафки, относящемся к Октябрьской революции. Суждение пророческое (1920 год), сбывшееся и потому особенно убедительное. Встретив шествие рабочих под революционными знаменами и плакатами, он сказал: «Эти люди так уверены в себе, решительно и хорошо настроены. Они овладели улицей, и потому думают, что овладели миром. Но они ошибаются. За ними уже стоят секретари, чиновники, профессиональные политики – все эти современные султаны, которым они готовят путь к власти». На вопрос: «Вы не верите в дальнейшее развертывание русской революции?» Кафка ответил: «Чем шире разливается половодье, тем более мелкой и мутной становится вода. Революция испаряется, и остается только ил новой бюрократии». Мы находимся на грани двух разных эпох. Выбор сделан. Отсчитывать ли его с начала перестройки или же с августовских дней, переживаемое время есть момент выбора. Мы не столь вольны в выборе, как это может казаться на первый взгляд. Совокупность условий и обстоятельств, объективно сложившаяся, доставшаяся от более чем 70-летней предшествующей истории, есть такая наличность, из которой приходится исходить, воленс-ноленс. Повторим ли, как это было свыше 70 лет назад: «Отречемся от старого мира»? Но от старого мира нельзя отречься, и это тоже воленс ноленс. Не нарушая ход естественно-исторического процесса, напротив, освобождая его от завалов, мы стоим перед вопросом: от какого наследства мы отказываемся. Ответить на этот вопрос и значит ответить на вызов времени. И здесь, вернусь к тому, о чем было выше – к судьбе поколений (расстрелянных, как в якобы заслуженном возмездии).
В большой читательской аудитории – было этой в конце 60‐х годов – состоялся творческий вечер Елизаветы Яковлевны Драбкиной, автора мемуарных книг «Черные сухари», «Зимний перевал». Это ее воспоминания о первых годах революции и политических деятелях того времени. Кто-то из аудитории прервал вступительное слово писательницы возгласом: «За что боролись, на то и напоролись!» [Ответная] реплика не заставила себя ждать: «Не на то напоролись, за что мы боролись!» Отвлекусь от оценок, существеннее понять различие в исходных позициях сторон. Для одной стороны послереволюционная история однолинейна и единообразна: черта, напрямую соединяющая две точки, самая короткая. Для другой стороны послереволюционная история развивалась поэтапно с характерными для каждого данного этапа чертами в переходах от одного этапа к другому. В основу положен принцип историзма, сам по себе безупречно научный. Возглас, поданный из читательской среды, конечно, и не претендовал на научность, был оценочным и для подавшего его аксиоматичным. Возглас искренний и, поскольку чередование этапов в развитии общественной структуры предполагает их преемственную связь,