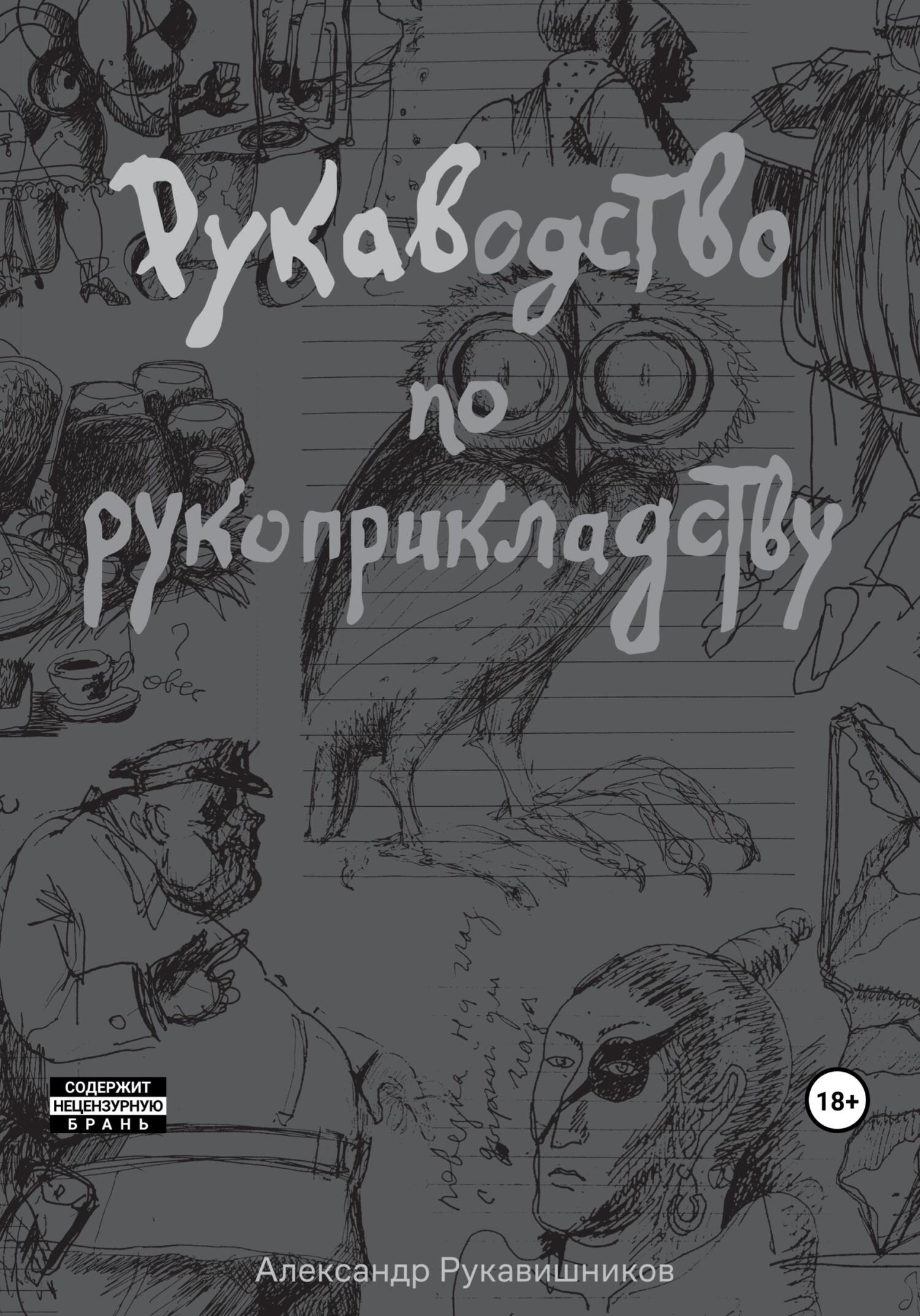успел вывести сотрудников из себя. Мы с Эдиком сели в милицейскую машину из солидарности и орали по дороге всякие глупости. По приезде в отделение, чтобы нас проучить, всех закрыли в «обезьяннике». Это было на улице Щусева, где мы с родителями в то время жили. От этого ситуация казалась мне еще трагичнее. Я представлял себе бабушку, маму, папу. Представлял, как они там будут без меня, даже не догадываясь о том, что я вообще-то неподалеку. Длилось это все минут двадцать, которые показались мне вечностью. Потом Эдик напомнил Нероде о дружбе с главным гаишником города, тот попросил телефон, набрал номер, дал раскалившуюся от мата трубку одному из привезших нас милиционеров, и нас быстренько отвезли к дяди-Юриной машине, припаркованной у шашлычной. Вместо извинения прозвучало: «Поосторожнее, граждане-художники».
Пустяк, с кем не бывало, скажете вы. Конечно пустяк. Но опыт был приобретен, и еще долго до следующих, не столь удачных, «обезьянников» я между делом упоминал в разговорах этот случай, сильно его приукрашивая. Сев в неродовскую «волгу», мы приехали опять на Щусева, но уже домой. «Ну ты, Рыжий, в своем амплуа, — сказал папа (папа всегда называл дядю Юру именно так, имея в виду Рыжий клоун). — Тебе необходимо все одновременно: и с футболистом дружить, и шашлык жрать, и ботинки итальянские скупать». Дядя Юра, спокойно улыбаясь и привычно подперев рукой подбородок, глядел на папу. Если не ошибаюсь, в итоге та беседа затянулась до утра — главным образом выясняли, кто кого уважает. Правда, я ушел спать, утром нужно было идти в школу.
Моей крестной согласилась быть Оля Барановская, дочь упомянутого выше великого подвижника Петра Дмитриевича. Как и моя родная мама, она была скульптором. Она еще работала начальницей на комбинате, в связи с чем у нее выработался властный, не терпящий возражений тон, и это с природным подчеркнуто тихим голосом. Все скульпторы без исключения боялись ее как огня. На меня, уже на взрослого, она тоже действовала как удав на кролика. Тетя Оля, так я называл ее с детства, была ближайшей подругой моей мамы. И только мама — одна из немногих — периодически в сердцах посылала ее на хер. А после этого тетя Оля звонила как ни в чем не бывало: «Сашенька, здравствуй, дружочек, позови маму». Мозг модницы тети Оли не отдыхал, она неустанно придумывала наряды с конкретными деталями, которые должно было искать и доставлять ей все ее окружение. Когда я вырос, она по телефону общалась примерно так: «Саша, здравствуй, тебе нигде не попадался серо-голубой сарафан в мелкую клетку? Если кто-нибудь будет продавать, купи мне, у меня сорок шестой. Да, еще помнишь, я отдала тебе папины галстуки-бабочки, когда тебе было лет десять. Так вот, один из них был темно-коричневый в мелкий светлый горошек, срочно верни мне его». Так весь дом начинал тщетные поиски. Гонцы ехали по комиссионкам и к знакомым фарцовщикам. Найдя нечто похожее, я ехал к тете Оле.
— Нет, Сашенька, это бордовый и горошек крупнее. Поищи еще, прошу тебя.
Я понуро покидал ее уютнейшую квартирку с потрясающими древними предметами и антикварной мебелью. Драматизм нарастал. Тетя Оля позванивала:
— Сашенька, не нашел? Ну поищи, он же не мог сквозь землю провалиться.
Я не решался ответить, что в десятилетнем возрасте мог его сразу выкинуть вместе с другими бабочками. По натуре я не стукач, но от безвыходности я обращался к маме, и она, когда раздавался очередной звонок, вырывала у меня трубку и страшным голосом орала в нее: «Ольга, … твою мать! Что ты привязалась к парню со своей сраной бабочкой?!»
Ни в чем не повинная трубка летела и билась об телефон. Подобные разговоры в среде творческой интеллигенции случались и были нормой. Тетя Оля поражала своей эрудицией. Она знала про древнерусское искусство и архитектуру все досконально. Ее дотошность в данном случае помогла ей стать недюжинным специалистом в этой области.
Свет или комфорт
Зa жизнь свою я сделал штук, наверное, двести станковых скульптур так называемой нетленки в разных материалах. Штук четыреста-пятьсот картинок и рисунков, больших и не очень. Наверное, штук сто памятников там и сям и только две больших скульптурных композиции: «Гладиатор» для Москвы и «Неманя» для Белграда — двадцать пять и двадцать два метра, не считая меча. Когда приступаешь к подобной работе, в размер сооружения, с первых шагов становится понятно — закончить ее невозможно. Скрываешь это от ребят-помощников, бывших учеников, хорохоришься, шутишь чаще, чем обычно. За день незаметно кладешь тонны глины. Ученики реально помогают, стараются, верят учителю — он же все может. У некоторых хорошо получается. Ближе к ночи неизбежно появляются малодушные мечты: упасть бы мордой в яму с глиной да полежать так тихонечко, но кто-то не дает. Положив кусок, тянешься за другим — как семечки, не оторвешься. Мятущийся гений, епрст! И так месяцами. Все труднее заставлять себя утром вставать. 3а окнами меняются сезоны. Жаль, родился не немцем или прибалтом каким-нибудь. Семь часофф — конец рабочий день, до завтра, тофарищи. Под четырнадцатиметровым потолком летом жарко невыносимо и душно, вентиляторы не справляются. Гнутый фонарь для правильного света над головой сделан из прозрачного пластика. Выбирай — или свет, или комфорт. Бойцы скульптурного братства выбирают свет. Тогда и нечего пытаться дышать. Часто в респираторе — привыкаешь. Тем более сухая глина, состоящая из микрочастиц, стоит облаком. Частые поливания и мокрые веники не помогают, да и с поливаниями надо быть поосторожнее — скользкая глина и высота — костей не соберешь.
Незабываемое впечатление от наслаждения творчеством усиливается еще и тем, что в руки периодически впиваются сантиметровые кусочки стальной ржавой тонкой проволоки. Бессменный технический директор и соратник Леня Петухов по доброте душевной дает взаймы глину нашим «друзьям». А возвращают они ее с разными вкраплениями и в разы уменьшившуюся. Успокаивает то, что глина обладает заживляющими свойствами, поэтому мы не обращаем внимания на порезы и уколы. А пашем, пашем и пашем.
Потом романтика бронзолитья. Печь гудит с надрывом, дрожит, раскаленный белый металл полился. Как будто другая планета — взметнулось под потолок облако черного дыма и поползло, затягивая все и медленно серея, почти ничего не видно. Невозможно продохнуть. Все ломанули на воздух. По всей линейке тихо дымятся куски ХТС 18. Завтра посмотрим, пролилось или нет. Ребята как из преисподней, потемневшие, улыбаются белыми зубами и белками глаз — устали.
Глаз устал
Первый свой полноценный памятник — памятник Микешину для Смоленска — я лепил в заброшенной церкви на Старо-Рязанском