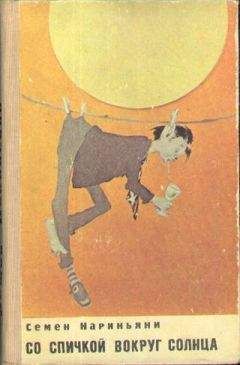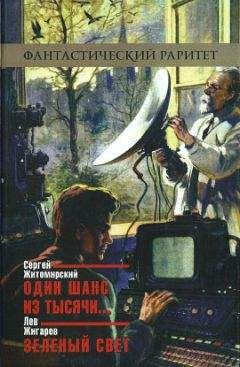— Понимаю, вы хотите задать вопрос: «А где взял деньги на машину ты, мелкий советский служащий?»
— Даже не думал.
— Думали, думали, и я отвечаю на ваш вопрос: «Счастье заменяет мелкому советскому служащему деньги».
Два квартала мы проехали молча, затем Елисапетов снова пробуравил меня, сказав:
— Сделайте одолжение, спросите, где я взял машину. Купил за тридцать копеек. Выиграл.
— Не по трамвайному ли билету?
— По билету денежно-вещевой лотереи.
— Может быть.
— Вы не верите мне?
— Верю.
— Если бы верили, не сказали «может быть».
— Простите, это вырвалось непроизвольно.
— У меня есть свидетель. Милисандров Виктор Викторович. Худрук театра драмы. Сидим мы как-то в его кабинете, обсуждаем вопрос: как продавать билеты на спектакли, которые рецензентам нравятся, а зрителям нет. Вдруг входит кассирша Леночка и предлагает купить на счастье выигрышные билеты. Милисандров берет десять, я один. Его десять ничего не выигрывают, а мой один — «Москвича».
Бусинки быстро ожгли меня, спросили:
— Знаете, к кому первому прибежал я поделиться радостью? К секретарю партийной организации.
— В таких случаях, по-моему, первой уместнее быть жене.
— У людей вашего положения — да! А кто я? Человеческий ширпотреб. Театральный администратор — оклад девяносто семь рублей пятьдесят копеек. Купить на свои законные машину я не могу, а быть у всех на подозрении не хочу. Секретарь парторганизации подходит ко мне, чтобы обнять, поздравить, а я говорю:
«Только не сегодня. Если можно, обнимите меня завтра в девять ноль-ноль».
— Почему?
— Потому что в этот час у нас ежедневно проводится планерка.
Значит, секретарь поздравит меня не один на один, а по крайней мере на глазах двадцати старших билетных администраторов. Кроме двадцати старших у нас есть сорок простых администраторов и двести пятьдесят билетных кассиров. И знаете, о чем я подумал тогда, в девять ноль-ноль, когда старшие администраторы недоверчиво сверяли номер моего счастливого билета с таблицей, напечатанной в газете? Вот если бы пустить мой билет с таблицей по рядам на общем собрании главной театральной кассы, чтобы каждый из трехсот наших сотрудников, по примеру старших администраторов, самолично проверил бы и убедился, что Август Леонидович Елисапетов — человек честный. Денег он не крал, взяток не брал и приобрел свой «Москвич» всего за тридцать копеек.
Но общие собрания сотрудников каждый день не созываются.
«Ближайшее выборное состоится только через полгода, — сказал председатель месткома, — если хочешь, жди».
Я мог бы, словно министр, ездить на машине, а я, выиграв «Москвич», шесть месяцев не получал его. Ждал. Попридержал свой выигрышный билет, чтобы пустить его по рядам общего собрания. И пустил, добился своего.
— А вы, я вижу, человек осторожный.
— Смелыми могут быть только те, которые получают в месяц от трехсот и выше, а такие, как я, всегда под подозрением. А теперь мне бояться нечего. Разве неправда?
— Может быть! — сказал я механически, не думая, что последует за этой вторично и легкомысленно произнесенной фразой.
Примерно через неделю получаю в пакете тисненное золотыми буквами приглашение в театр драмы на сотое представление какой-то пьесы. Такие торжественные пакеты в редакции получали всего два человека — главный редактор и редактор отдела искусств. Газетный ширпотреб, выражаясь языком Елисапетова, а именно рядовые литсотрудники приглашений, тисненных золотом, не удостаивались. И вдруг неожиданность — приглашают и меня, грешного.
Бегу домой, переодеваюсь, и к началу спектакля я в театре. Поднимаюсь по парадной лестнице, гадаю, кто мог вспомнить, позаботиться обо мне, а он, этот благодетель, стоит на верхней ступеньке, беспокойно ощупывая меня своими бусинками.
— А я думал, вы не придете,
— Пьеса-то хоть хорошая?
— Дрянь!
— Зачем же вы прислали тисненное золотом приглашение?
— В прошлый раз вы дважды сказали «может быть».
— Ну и что?
— Дважды усомнились в моих словах.
— Милый, вам нужно лечиться. Вы псих.
— Может быть.
— Вот и вы сказали, «может быть».
— Между моим «может быть» и вашим — разница. Вам от моего «может быть» ни жарко ни холодно, а мне от нашего грозят неприятности. Идемте, он вас ждет.
— Кто?
— Милисандров Виктор Викторович. Худрук театра. Мы с ним вместе покупали выигрышный билет. Господи, разве я виноват, что мой оказался счастливым.
Я повернулся и быстро пошел вниз, к выходу. Елисапетов догнал меня, схватил за руку.
— Вы не имеете права уходить, не выслушав Милисандрова. Пойдемте, он подтвердит, что я выиграл машину по лотерейному билету.
— Мне не нужно подтверждений, я — верю вам и так.
— А я не верю, что вы верите мне. Скоро год, как этот проклятый «Москвич» у меня. И весь этот год я у всех на подозрении. Кому ни скажу про выигрышный билет, каждый иронически улыбается.
— И вы каждого водите к Милисандрову за подтверждением?
— На всех тех я плюю.
— Плюньте и на меня.
— Плевал, не помогает. Достаточно только мне представить в завтрашнем номере газеты фельетон под заголовком: «Москвич» по трамвайному билету», как у меня тут же начинается тахикардия. Сердцебиение.
— Я не собираюсь печатать о вас в завтрашнем номере газеты фельетон.
— А в послезавтрашнем?
— И в послезавтрашнем.
— Сегодня вы говорите так, через неделю возьмете и перерешите.
— Не перерешу.
— Честное слово?
— Честное слово.
Елисапетов ощупал меня бусинками.
— Чтобы не перерешить, вы должны быть убеждены в моей честности.
— Убежден!
— Не верю. Фельетонист — человек серьезный. А серьезный человек не может верить людям на слово. Серьезному нужны веские подтверждения. Пойдемте к Милисандрову. Он худрук. Народный артист. Врать не станет.
— Не пойду.
— Господи, за что?
Елисапетов сказал, и впервые его бусинки не прожгли, не ощупали меня, а глянули с тоской и страданием. Я решил не перечить, выполнить его просьбу. В самом деле, что мне стоит выслушать вторично нехитрую историю о том, как два советских человека приобрели на счастье одиннадцать лотерейных билетов. Один купил десять и ничего не выиграл, а второй купил один и оказался хозяином «Москвича».
Потеряю две минуты, послушаю худрука, зато навсегда отделаюсь от этого чересчур впечатлительного театрального администратора.
Но пришлось потерять не две минуты, а много больше.
— Виктор Викторович просил посидеть, подождать его, — сказала секретарша.
Елисапетов заволновался.
— А вы назвали, кто к нему пришел?
— Назвала.
— Я не один, а с Пав. Крохалевым. Фельетонистом.
— И это передала.
Елисапетов не унимался:
— Может, у Виктора Викторовича посетитель?
— Никого.
— Тогда в чем же дело?
— Думает. Изобретает мизансцены.
Думал Виктор Викторович, сидя один в кабинете, минут двадцать. Затем на столе у секретарши загудел зуммер. Секретарша улыбнулась:
— Пожалуйста.
Мы входим. Елисапетов говорит:
— Добрый вечер.
В ответ — ни слова. Мы стоим в трех шагах от худрука. Смотрим в четыре глаза на него, а он думает, не видит нас. Мы стоим так минут десять, и он десять минут думает в нашем присутствии. Внешне это выглядит так. Худрук смотрит сквозь нас, не мигая, в левый угол кабинета. Потом, мигнув, переводит художническое око в правый угол кабинета. Затем поворачивается на вертящемся кресле к нам спиной и пребывает в таком состоянии примерно минуту. В этой позе худрука осеняет мысль. Эврика! Вертящееся кресло делает пол-оборота, И худрук фиксирует внезапно пришедшую мысль в блокноте.
Еще со школьной скамьи мне было известно, что глаголом «думать» определяется одно из свойств человеческой натуры.
Я знал, что акт думания самый интимный, стыдливый. Оказывается, ничего подобного. Есть уникумы, которые могут думать напоказ. Четыре раза вертящееся кресло заставляло худрука поворачиваться спиной к посетителям, и все эти четыре раза его осеняло вдохновение. И вот четвертая, внезапно пришедшая в голову мысль зафиксирована в блокноте, худрук выходит из творческого экстаза, и, не сказав своим посетителям ни «здравствуйте», ни «садитесь», объявляет:
— Хочу ставить «Отелло» и весь там, в материале.
— Мы к вам, Виктор Викторович, — робко говорит Елисапетов.
— До сих пор режиссеры трактовали «Отелло» символом ревности. Я пришел к другому выводу. Отелло не символ ревности — он жертва доверчивости.
— Такое мнение уже высказывалось, — говорю я.
— Не знаю, не слышал.
— Мнение это даже напечатано.