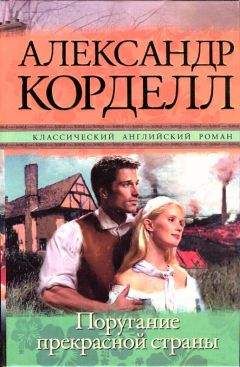Я кивнул.
— Тогда чего ж ты бережешь руки и заставляешь меня тратить время на всяких Гарри Остлеров? С такими, как он, следовало бы разделываться тебе.
Он отошел к двери сарая, закрыл лицо руками и сказал глухим голосом:
— Вы друзья с Морфид, Йестин. Скажи мне без утайки, это правда?
Я молчал.
Он круто повернулся; его лицо побелело от ярости, хлестнувшей меня, как кнут.
— Правду, Йестин, или я тебя изувечу! Я, отец, узнаю последним!
— Ну да, если хочешь знать правду, она беременна! — выкрикнул я. — От Беннета, и сколько бы ваши дьяконы ни вопили, этого не изменишь. И даже если ее отлучат от молельни и выгонят из дому, она все равно будет беременна.
Он стоял неподвижно, как изваяние, закрыв глаза и опустив стиснутые кулаки.
— Она любила его, — сказал я.
— Уйди отсюда, Йестин.
Я прошел мимо него к двери.
— Отец, — сказал я, — они любили друг друга великой и прекрасной любовью. Обыщи хоть целый свет…
— Уходи, — повторил он.
И я ушел на кухню и там, стоя около рукомойника, слушал его рыдания.
У Морфид было совсем другое настроение.
Я сразу же пошел к ней в комнату, чтобы предупредить ее, — ярость отца меня напугала.
Она стояла на коленях в корсете, привязав его шнур к спинке кровати, и силилась затянуть его, упираясь в пол ногами и руками, как кобыла, запряженная в тяжелый воз.
Картина была такая, что дух захватывало, — длинные стройные ноги и высокая белая грудь над подоткнутой к поясу нижней юбкой.
— Ради Бога, — проговорила она, — еще два дюйма, и ни одна душа в приходе не догадается.
— Что это ты затеяла? — спросил я, вытаращив глаза.
— Примеряю подвенечное платье. Раз уж пришел, помоги-ка. Упрись спиной в кровать, а ногой мне в спину — нажмем вместе.
— Таким манером он из тебя выскочит на ступенях алтаря.
— Без шуточек.
— Это ты шутки шутишь.
— Что сделано, то сделано, — сказала она, разводя руками. — Тут уж ничем не поможешь. От правды не спрячешься, малыш. Ты совсем стал как проповедник, да к тому же еще англиканский. Ну, давай, еще два дюйма — а то платье разойдется по швам.
Я тупо повиновался. Морфид поцеловала меня, будто это я был женихом, повернулась на одной ноге и, остановившись посреди комнаты, стала обмерять талию.
— Двадцать дюймов, — с гордостью провозгласила она. — Честь семьи спасена. Брось мне платье, малыш!
Я сказал, глядя ей в глаза:
— Морфид, все открылось. Отец знает.
Улыбка на ее лице сменилась выражением ужаса, и она зажала рот руками.
— Да, — повторил я. — Он знает. Наверно, уже дня два.
— О Господи, — простонала она и опустилась на постель, прижимая скомканное платье к лицу и ударяя кулаком по одеялу. — О Господи!
Я пошел к двери — мне захотелось уйти от всего этого и никогда не возвращаться.
Но вернуться все же пришлось, и, спускаясь с горы на обратном пути, я увидел возле дома тележку Снелла — значит, мать, Эдвина и Джетро уже вернулись из Абергавенни. Я, как всегда, перемахнул через забор. Но, подойдя к дому, я увидел через раскрытую заднюю дверь Томоса Трахерна, одетого в черное и грозного, как туча, а перед ним — моих родных с опущенными глазами. Морфид, в подвенечном платье, стояла бледная, гордо подняв голову.
— И поэтому, — торжественно провозглашал Томос Трахерн, — в наказание за свершенное тобой прелюбодеяние ты сегодня предстанешь перед дьяконами и будешь отлучена от молельни. И до тех пор, пока я жив, тебе будет отказано в таинстве брака в стенах нашей молельни.
Ему это не раз уже приходилось говорить, и обычно в ответ лились слезы, раздавались мольбы и причитания: «Господи, что со мной будет!» и «Уж лучше бы мне умереть!»
Но Морфид сказала, сверкнув глазами:
— Аминь. И ты называешь себя служителем Божьим? Когда придет день Страшного суда, такие, как ты, Томос Трахерн, и все прочие ваши дьяконы, будут гореть в адском огне за жестокость к нерожденным младенцам. А теперь живо убирайся отсюда, иди пой свои псалмы, скотина, а не то я расцарапаю тебе рожу, как настоящая шлюха, раз уж ты меня объявил шлюхой.
Томос вылетел за дверь пулей, но в доме у нас лились горькие слезы.
Листья на деревьях уже меняли окраску в тот день, когда Морфид венчалась с Дафидом Филлипсом в Коулбруквеле; от молельни было рукой подать до трактира «Королевский дуб», где собирались чартисты. Уилл Бланавон сказал, что это — предзнаменование.
Мы были на венчании всей семьей — мать говорила, что у нее словно камень с души свалился; из нашего поселка набралось порядочно народу; этого следовало ожидать, съязвила Морфид: не каждый день увидишь брюхатую невесту. Дафид был жених хоть куда — новый костюм, в петлице букетик гвоздик, ботинки начищены так, что хоть глядись в них, высокий белый воротник подпирает горло. А уж важничал! Гонору его хватило бы на целую свору господ. Морфид была хороша как никогда. Она обводила молельню долгим вызывающим взглядом; под венцом и то лезет в драку, сказал отец. Но ей нечего было беспокоиться — в Нанти ее любили и уважали, и весь поселок явился на венчание, трубя в рожки, стреляя из ружей и протянув столько веревок поперек входа в молельню, что и кавалерийский полк не прошел бы. Во время службы отец стоял с неподвижным лицом, но то, как встретили его дочь жители Нанти, кажется, было ему приятно. Мать и Эдвина, конечно, лили слезы — женщины без этого не могут, — а мы с Мари сидели рядом с Джетро и с нетерпением ждали, когда можно будет сбежать в горы. Пришли на венчание Большой Райс Дженкинс и Мо, пришли Афель Хьюз и семья Робертс, и Сара, вся разодетая в ленты и кружева, бросала на Мари косые взгляды. Мистер и миссис Тум-а-Беддо приехали в тележке Снелла, а Идрис Формен и братья Хоуэллсы привели с собой половину революционеров Монмутшира. Были в молельне и люди, которых я никогда прежде не видел, — все друзья Морфид; некоторые были одеты и держались, как господа. А когда мы добрались до Рыночной улицы, соседи уж расставили столы с угощением, а дети тащили охапки осенних цветов.
Очень мне понравился Нантигло, сказал я Мари, хотя я только и думал, как бы скорей сбежать оттуда в горы. Ярко светило солнце; мы нашли тенистое местечко и легли на траву, замирая от волнения — наконец-то мы были одни. Приподнявшись на локте, я смотрел на Мари. Волосы у нее были перевязаны сзади черной лентой, руки оголены до плеч. Она вся светилась, пронизанная солнцем, а узорчатая тень листвы делала ее кожу бархатисто-смуглой.
Мы лежали молча — в словах не было нужды. Внизу расстилался Кум, над нами возвышалась гора, играя на солнце всеми красками. Тишина вокруг навевала покой, дремоту, сладкую, как ласки любви. Я обнял Мари. Целуя ее, я увидел, как испуганно расширились ее глаза. Она казалась частью лета, гибкая, мягкая, неподатливая; частью горы, дрогнувшей подо мной, когда я поцеловал ее еще раз. Все звуки умерли для нас, кроме дыхания ветра и шелеста листьев на укрывавших нас деревьях. Мы лежали, слившись губами, и не слышали в любовном порыве ни молотов Коулбруквела, ни вальцов Нанти, заглушенных стуком наших сердец. Кровь закипает в жилах, дыхание учащается, и в жарком безумии губы впиваются в ее рот, руки скользят по нежному телу.