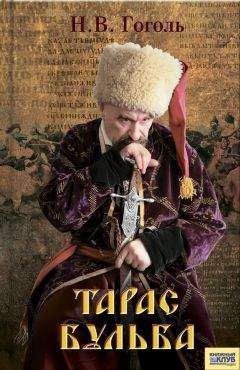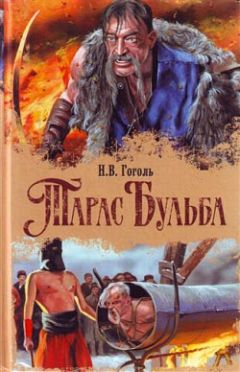— Дожалобилась? — пытался угадать Седой.
— В шальные двадцатые вспомнили и уважили, подняли на вилы: три разом — те длинные, что стога подметывают, да так и оставили растопыркой — повыше к небу.
— Сурово!
— А здесь и народ раньше проживал иной — суровый и добрый одновременно. Доброта к доброму, а суровость к остальному…
Михей заставлял ходить, когда не то, что ходить — дышать было мучительно больно. Если не плавать, то хотя бы обмываться ежеденно в трех водах, до которых должен был добрести сам: речной, озерной и родниковой или колодезной. Уводил далеко…
— Все озеро — один родник.
— А куда вода уходит?
Михей морщил лоб — должно быть раньше не задавался таким вопросом, и другими, которые ему «по скудоумию» задавал Седой.
— Думаю, подземными протоками в реку Великую. Это — Стопа. Или «Галоша» для местных, но они и про это забыли. Бежал Бог по небу, да оступился. Должно быть, во времена, когда веровали в многобожие. Сюда ночью бабе идти за водой. Самой заплыть на середку, нырнуть как можно глубже, спросить — чего хочет, да разом в бутыль воду собрать, потом слить в открытую посуду, и такой же нагой нести, не покрывая ничем ни себя, ни воду, по лесу, оберегать воду от всякого.
— От чего?
— От всякого! — сердился Михей его непонятливости. — Тетради под яблоней откопаешь…
И не говорил какой. Потом понимание пришло, позже. Но побольшая часть до разума дошагала, когда тетради стал читать и перечитывать. А яблоня? Одна такая — ничья, сама по себе от рождения, оставленная, как есть — давшая множество отростков от корня, которые со временем превратились в стволы… В этих местах богател речью, губкой впитывая новые слова. До боли знакомые, только подзабытые в детстве… Возможно, что даже и не своем…
Михей подходил к камням у дороги, разговаривал с ними, иные гладил. Кажется ничего особенного, но отчего–то потом с ними происходило всякое. Были и те, что — от стыда ли? — но едва ли не сразу обрастали мхом, другие вдруг уходили в землю больше чем наполовину, а один — большой и гладкий, как только переговорил с ним и спиной повернулся, взял и треснул наискось. Седой бы не поверил, если бы только не видел сам. Но не изумился, отчего–то решая, что так и должно быть, и Михей правильно наказывает камни — словно людей, что пытались прятаться от жизни.
Никто не помнил глаза Михея. И сам Седой тоже. Сколько не спрашивал — не могли сказать, хотя взгляд, припоминали, был добротный. Не добрый, а именно добротный — хозяйский взгляд. На все, на землю, людей, леса и воды…
Сложилось все — само по себе, за банными ли разговорами, с хитрой ли подачи Извилины, но Седой постепенно вышел в своеобразные зампотылу, а его хозяйство превратилось в общую базу, где он выступал смотрителем.
Первый день — время общих разговоров, отдыха, обязательной бани, а уж потом месяц или два занятия по расписанию, составленному Седым и утвержденному Командиром — Георгием. Седой в учебные разведвыходы больше не ходил — не тот возраст, обеспечивал пайком, а когда возвращались — горячим, постирушку организовывал и баню. Но на равных во всех разборах, выступая вроде третейского судьи. Гораздо больше славился как лекарь — слухи о его искусстве ходили всякие, не всегда правдоподобные.
Георгий, хотя и проучился несколько лет на медицинском, к шаманским знаниям Седого относится очень почтительно. Сам после дурного контракта мочился кровью, но приехал к Седому, и тот лечил его по старинке: рубил дубовый лист, выжимал сок, а кроме этого заставлял пить такое, что лишь взрослому невпечатлительному мужику можно, да и то, если не брезглив, да «видал виды». И опять же — сам ли это организм справился, но вылечил.
Среди групп прошлось, что тот самый безнадежный Седой, которого еще сколько–то лет назад списали вчистую, и давно должны были бы схоронить, теперь здоров как бык: самодурью вылечился, да и остальных на ноги ставит — тех, от кого врачи отказываются. И потянулись с тем, да этим, а еще и такими болячками, о которых заявить побаивались, чтобы не списали, не комиссовали почем зря. Всякого разного при чужом климате подхватываешь, иногда и стыдную болезнь, очень экзотическую, которой в русском языке названия нет — даже матерного. Особо же частили перед ежегодной врачебно–летной комиссией. Для них — спецов по «Першингам» — другой так и не удумали. Словно все они — пилоты–истребители многоразового использования, а вовсе не наземные «камикадзе», как по факту получается. Шансы дело сделать — есть, но шансы уцелеть после дела — мизерные. Комиссия эта, была всякий раз чужой, не подкормленной — въедливой, порядком народа вывела «за штат». А группа Седого держалась — не один эскулап ничего такого найти не мог, чтобы придраться. Рецепт был простой — за две недели до осмотра Седой увозил всех в лес — заставлял пить только ключевую воду, да отвары, которые каждому подбирал свой. Перед этим пристально смотрел в глаза — искал крапины, пятна и, найдя, словно чувствовал — знал кому что надо жрать, а чего избегать…
Откуда–то, словно сами собой вспоминаются наговоры. Всякий наговор хорош, в который всей душой веришь. Твоя вера — человеку помощь, потому как его собственную веру укрепляет. Отнюдь не смысл слова в наговоре значение имеет, а его музыка и первое тайное значение. То, что сам раскрываешь или в него вкладываешь. Вера лечит, она в себе несет выздоровление. Два главных человечьих лекарства — вера и надежда. Без них, если сдался, уже ничто не поможет. Вера и надежда в словах заключены, в правильном их подборе и музыке к ним — доброте душевной. Хоть ругательскими словами рецепт замешивай, хоть обзывай по всякому, но с добротой, с душой светлой, с желаниями чистыми, тогда человек выздоровеет. А говори самые добрые по значению слова, но со злобой на сердце, с собственной желчью, и при любых лекарствах получится обратное…
Наговор и уходящего на войну укрепит:
«Завяжу я, раб Иван, по пяти узлов каждому стрельцу немирному, неверному — на пищалях, луках и всяком ратном оружии. Вы, узлы, заградите стрельцам все пути и дороги, замкните все пищали, опустите все луки, повяжите все ратные оружия. И стрельцы бы из пищалей меня не били, стрелы бы их до меня не долетали, все ратные оружия меня не побивали. В моих узлах сила могучая, сила могучая, змеиная, сокрыта, от змея двунадесятиглавого, того змея страшного, что пролетел за Океан–море, со острова Буяна, со медного дома, того змея, что убит двунадесятью богатырями под двунадесятью муромскими дубами. В моих узлах защита злою махехою змеиной головы. Заговариваю я, раба Ивана, ратного человека, идущего на войну, моим крепким заговором, крепко–накрепко…»
А если уходя стукнуть в ставни родного дома или, если нет такой возможности, то дома чужого, но чем–то близкого или приглянувшегося, то укрепит втрое. А от врагов наговор краткий:
«Мученица Параскевия, нареченная Пятницей, и мученики Терентий и Неонил и их чада: Сарвил, Фота, Феодул, Иеракс, Нит, Вил, Евникий, спасите, сохраните от врагов видимых и невидимых. Аминь!»
— Седой, о чем задумался?
— И чтоб гостями на погосте, а не «жителями»! — поднимает тост Седой.
Казак тут же рифмует затейливую бессмыслицу.
— На погосте гости, из погоста — кости!
— Все будет, — вздыхает Седой. — И то будет, что нас не будет.
После драки, что после боя, как остынешь, всегда философское настроение. Все как у всех: с первого боя говорили, перебивая друг друга, взахлеб, беспрестанно смеясь, с десятого спали, кто где нашел место прилечь — хоть и на голых камнях. Но никто еще не лежал развалившись во все тело, как в мирное время, каждый сжавшись в калач, чтобы поставлять под нож, осколок или пулю как можно меньше места… Потом в какой–то момент все изменилось — заматерели.
До вечера еще далеко, потому Седой предлагает протопить баню по второму кругу, на этот раз и одной закладки должно хватить — баня еще теплая. А пока можно перейти в дом, отдохнуть на лавках… Но все отказываются. То есть, за протопку бани все — «за», а вот куда–то перебираться, когда так хорошо — на кой? Можно здесь поваляться — вздремнуть, и даже на траве возле бани вполне удобно.
Когда–то Седой требовал, чтобы хоть на пару дней, но если не в дальней командировке, как хошь, но если его уважают, обязательно должны вырываться к нему на Аграфену, попариться особыми вениками. Хотя и посмеивались про себя над этими причудами, но съезжались к Седому как раз к этому дню — отметить свой второй день рождения, а заодно и, раз уж так вышло, и Аграфену–купальницу, 6 июля, когда всякий русский человек, держащийся традиций, должен обязательно попариться в бане и непременно свежими вениками, сломленными в тот же день: в каждом должно быть по ветке от березы, липы, ивы, черемухи, ольхи, смородины, калины, рябины и по цвету разных трав.