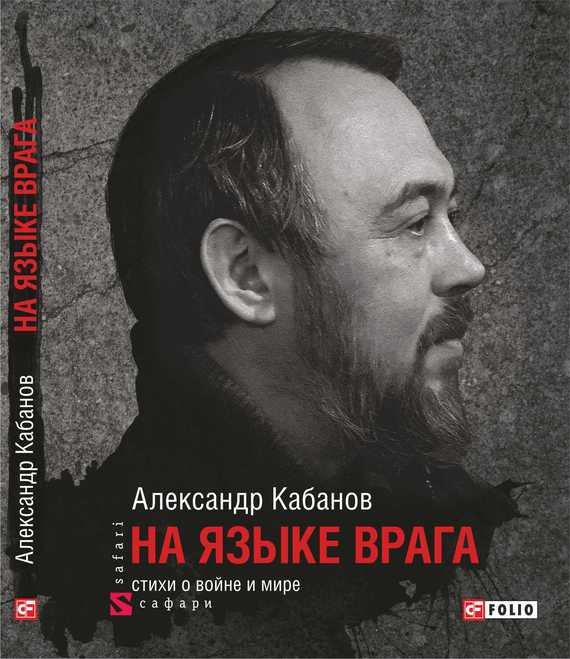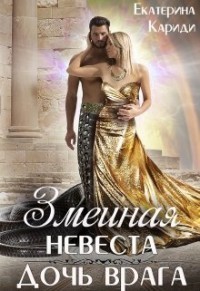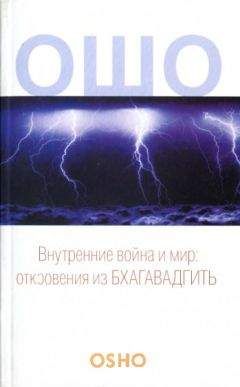Мысли мои слезятся, словно вдохнул карболки,
дважды уходишь в себя, имя рек,
«Как Вас по отчеству?», – это Главврач в ермолке,
«Одиссеевич, – отвечаю, – грек…»
Отворачиваюсь, на голову одеяло
натягиваю, закрываю глаза – небывало
одинокий, отчаявшийся человек.
О, медсестры – Сцилла Ивановна и Харибда Петровна,
у циклопа в глазу соринка – это обол,
скорбны мои скитания: Жмеринка, Умань, Ровно…
ранитидин, магнезия, димедрол…
Лесбос бояться, волком ходить, и ладно,
это – Эллада, или опять – палата,
потолок, противоположный пол?
Я прибыл в ночь на поезде саврасом,
безумец круглый – в поисках угла,
кувшин, обросший человечьим мясом:
о, как моя десница тяжела.
В карьере мраморном раскинулась деревня,
чьи улицы прорезаны в толпе,
здесь каждый житель – извлечен из кремня
и вскормлен, словно памятник себе.
Поскольку под рукой материала
на всех не хватит – вскоре порешат,
что и природа – часть мемориала:
от южных гор до северных мышат.
Ржавеют птицы, заливаясь щебнем,
в молочных ведрах киснет купорос,
а я – смеюсь, вычесывая гребнем
бенгальский пепел из твоих волос.
Строительство имеет много магий,
краеугольный камень – хризолит,
и здешний воздух – воспаленный магний:
от слов – искрится, в музыке – горит.
Но ты не слышишь, обжигаясь в древнем
высоком сне, как глиняный Колосc,
покуда я вычесываю гребнем
бенгальский пепел из твоих волос.
Крыша этого дома – пуленепробиваемая солома,
а над ней – голубая глина и розовая земля,
ты вбегаешь на кухню, услышав раскаты грома,
и тебя встречают люди из горного хрусталя.
Дребезжат, касаясь друг друга, прозрачные лица,
каждой гранью сияют отполированные тела,
старшую женщину зовут Бедная Линза,
потому что всё преувеличивает и сжигает дотла.
Достаешь из своих запасов бутылку токая,
и когда они широко открывают рты —
водишь пальцем по их губам, извлекая
звуки нечеловеческой чистоты.
Я здесь, я тут,
потому и зовут меня – тутовый шелкопряд,
злые языки плетут,
что я – не местный, что я – тамошний шелкопряд,
понаехавший, gastarbeiter, пархатый шельмец…
…тянутся дни чередою витражных окон,
вот задрожал и свернулся в праздничный кокон
турецко-подданный мой отец.
Сон шелкопряда – это шелковицы смех,
ибо она зацветает только во сне шелкопряда,
это слова: шаддах, килим и силех,
хитросплетенье узоров райского сада.
Евнух с кривым мечом, и опять грустны
юные одалиски: чья голова на блюде?
Все шелкопряды видят одни и те же сны,
как в них живут и умирают люди.
А я по-прежнему тут, я еще и еще здесь,
вот привели туристов, они из страны – Нэтрэба,
километровой шелковой нитью укутан весь:
от последней строки и до самого первого неба.
Мне подарила одна маленькая воинственная страна
газовую плиту от фирмы «Неопалимая Купина»:
по бокам у нее – стереофонические колонки,
а в духовке – пепел, хрупкие кости, зубные коронки,
и теперь уже не докажешь, чья это вина.
Если строго по инструкции, то обычный омлет
на такой плите готовится сорок пустынных лет:
всеми брошен и предан, безумный седой ребенок,
ты шагаешь на месте, чуешь, как подгорает свет
и суровый Голос кровоточит из колонок.
Протрубили розовые слоны —
над печальной нефтью моей страны:
всплыли черти и водолазы…
А когда я вылупился, подрос —
самый главный сказал: «Посмотри, пиндос,
в небесах созрели алмазы,
голубеет кедр, жиреет лось,
берега в икре от лосося,
сколько можешь взять, чтоб у нас срослось,
ибо мы – совсем на подсосе.
Собирай, лови, извлекай, руби
и мечи на стол для народа,
но, вначале – родину полюби
от катода и до анода,
чистый спирт, впадающий в колбасу —
как придумано всё толково:
между прошлым и будущим – новый «Су»
и последний фильм Михалкова.
Человек изнашивается внутри,
под общественной, под нагрузкой,
если надо тебе умереть – умри,
смерть была от рожденья – русской…»
…Ближе к полночи я покидал аул,
по обычаю – выбрив бошку,
задремал в пути, а затем – свернул,
закурил косяк на дорожку:
подо мной скрипела земная ось,
распустил голубые лапы
кедр, на решку упал лосось —
римским профилем мамы-папы.
Вот и лось, не спутавший берегов,
в заповедном нимбе своих рогов,
мне на идиш пел и суоми —
колыбельные о погроме.
Что с начала времен пребывало врозь,
вдруг, очнулось, склеилось и срослось:
расписные осколки вазы —
потянулись, влажные от слюды,
распахнулись в небе – мои сады,
воссияли мои алмазы.
Долго умирал Чингачгук: хороший индеец,
волосы его – измолотый черный перец,
тело его – пурпурный шафран Кашмира,
а пенис его – табак, погасшая трубка мира.
Он лежал на кухне, как будто приправа:
слева – газовая плита, холодильник – справа,
весь охвачен горячкою бледнолицей,