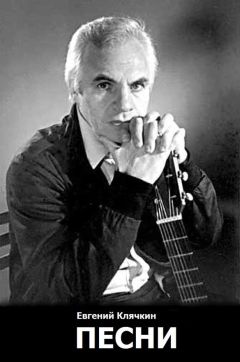Сын века
Ах, как двадцатый век хитер,
не любит он эффектный вид.
И рвущемуся на костер
как раз костер и не грозит.
Скорее будет все вот так:
тебе предложит век-хитрец
какой-то красочный пустяк,
и ты воскликнешь: «Молодец!
Один нажим — и вот он, приз!
Уже шатается стена!»
Веселый ждет тебя сюрприз,
поскольку то была цена.
Цена за принятую роль,
а впрочем, коль она мала,
и ты кипишь еще, изволь, —
добавим, экие дела!
И ты сидишь с набитым ртом
среди похожих, среди всех
в недоумении тупом
и жаждешь ласки и утех.
За оградой, черною оградой,
у ступеней красной колоннады
белый снег внизу,
чистый, как в лесу.
На снегу, случайный, как прохожий,
розовой поземкой запорошен,
гордый, как луна,
ломкий, как струна, —
старый лист — когда-то был газетой,
но уже давно забыл про это —
чуть привстал, шурша,
сделал первый шаг…
Он стал на носочки и поднял над снегом плечо,
и вот уже края его трепещут, как крылья,
и ломкая грудь выгибается вздутым плащом,
и в каждой бывшей строчке, в каждой букве — усилье.
Ах, что же толкает меня на холодный металл?
Он мрачен — ну конечно же, усталость, усталость.
Ну, милый, ну правда же, — просто ты очень устал.
Но я уже лечу, уже немного осталось…
Трое, трое — вечно втроем:
бумага, чугун и ветер.
В ней — порыв, и сдержанность — в нем,
и не виден третий.
За оградой, черною оградой
Белый снег внизу…
Неведомо как за незримой иголкой
струится незримая нить.
И мне этой женщины хватит надолго —
ах, только б ее сохранить!
Ах, только бы легкие пальцы летали
над сумрачным нашим житьем,
ах, только б незримые дыры латали
волшебные руки ее.
На ниточке этой, как на пуповине,
единою кровью дыша,
два сердца, скрепленные по сердцевине, —
они и зовутся «душа».
Когда же дыханье и тело едины,
понять не составит труда:
мы неразделимы и необходимы,
и это — уже навсегда.
Не верю в богов, во второе рожденье,
ни в скорый и праведный суд.
Надежда одна — что в последнем паденье
летящие руки спасут.
А если и им не дано дотянуться
иль силы не хватит в крылах, —
спасибо судьбе, что смогла улыбнуться,
и жизни — за то, что была.
Солнце в крыши опускается,
а я по-прежнему шутю.
Наша бочка рассыхается,
и вода из ней — тю-тю.
Ветер свистнет по-разбойничьи,
дверь захлопнется за мной.
Знаменитые покойнички
лягут в струнку под стеной.
Нету брода на Москве-реке —
есть замоскворецкий мост.
И китайские фонарики
освещают мой погост.
По мосту или по бревнышку —
ах, какая ерунда! —
мне подмигивает солнышко —
«лишь вода была б вода».
Сосчитать в перилах палочки —
разве это пустяки!..
Ну прости меня. Пожалуйста.
Ну пожалуйста — прости.
Ах, не дели ты с музыкой слова —
они, как мы с тобой, неразделимы.
А если не сольются воедино,
то лгут слова, а музыка права.
Ну что еще так нежно обоймет?
Так глубоко на дно души заглянет?
Поманит, позовет — и не обманет,
и все печали до конца поймет?
Ах, не ищи ты трещинку в любви,
не проверяй кирпичики на прочность,
а то ведь вот случится как нарочно —
со страху страхи сбудутся твои.
А ну-ка загляни судьбе в глаза —
увидишь только то, что сам захочешь:
от веры до сомненья путь короче,
намного, ох, короче, чем назад.
Ах, не пускай ты ревность на порог —
она и ненасытна и всеядна.
И ты пропал, когда промолвил: «Ладно!
Проверим подозренья хоть разок».
Сомненья дьявол ловок и хитер:
погашенное — снова жжет страданье.
И не стремись услышать оправданья —
они поленья в этот же костер.
Ну, не надо — пусть напев беспечный
успокоит душу и умерит боль.
Страх с любовью — они рядом вечно.
Значит — любишь, если и с тобой.
Ах, не дели ты с музыкой слова…
Ах, не ищи ты трещинку в любви…
Песня «Тебе» написалась одним дыханием и с мелодией. Потом я подумал, что мелодию сдернул с итальянской песни Аль Бано и Рамины Пауэр. Это тот самый случай эстрадной песни, когда нужно делать что-то похожее, но непохоже. Кукин просто содрал свою знаменитую «За туманом» у Доменико Модуньо один к одному. Я Юру не ругаю, конечно, просто говорю, что так он решил для себя. А я сделал это совершенно несознательно. Просто когда это обнаружил, менять не стал; нет, песня другая, но истоки видны.
1989
Я вишу на стене, два гвоздя меня держат за плечи,
мое чуткое ухо придвинуто к вашим губам.
И черны небеса, и как надо, но, милые, нечем
хоть бы малую свечку затеплить надеждою вам.
И поняв — не смеюсь, что за стенкой и солнце, и небо.
Голубые бегут, голубые, как жизнь, облака.
Я железный сундук, как судить мне о том, где я не был?
Но и то, что я знаю, мне вынести, вынести как?!
Вот монетка провалится, пискнут мои позывные.
Торопливые звуки покатятся по проводам:
«За меня не волнуйтесь — со мной все в порядке, родные».
Он живой, он живой еще — вот что услышится там.
Но ведь он — это я, и сейчас я расплавлюсь, пожалуй, —
две горячих волны жарко бьются в моих контурах:
рядом боль и надежда, оттуда безмерная жалость,
и над всем — от натяга звенящий, немыслимый страх.
А слова все круглее, и фразы скользят все бодрее,
и взорваться истерикой каждая может — лишь тронь.
Я беру на себя, я ушей им не жгу — только грею,
и сжигает меня опаляющий душу огонь!
Вот отбой. Но за первой ложится вторая монета.
Сколько их еще будет! И сколько, давясь, я сжевал!
Я горю — это точно! Мне больше не выдержать это!
Был такой на кресте — как же звали его, как же зва…
…Ну ведь надо ж такое — сломался, пока говорили.
Эй, сестра, вызывайте механика — старую рухлядь чинить.
Мы толклись на площадке, от врачей потихоньку курили,
и в дыму сигареты я все это насочинил.
А картинка сложилась, как видите, точная.
Адрес тоже имеется — слава богу, теперь уж не мой и не ваш:
Ленинградская область, платформа Песочная,
институт онкологии, третий этаж.
Тоска мерцает,
грусть — неуловима.
Осколки радости —
острей алмаза.
А лик любви
всегда многообразен.
Но ложь — безлика.
Тройка скачет, тройка мчится,
зыбким кругом стали спицы,
колесо через страницу катит.
Мы глядим из переплета,
как мелькают те ворота,
где всегда за выход кто-то платит.
Ах зачем лететь куда-то —
ведь и так печаль крылата,
да и много ли нам надо — хватит.
Есть во всем своя природа:
знать, у бойкого народа,
обгоняя мимоходом ветер, —
нет обмана здесь нисколько —
улетает птица-тройка,
только мест на этой тройке нету…
Все сбылось и очень точно —
тройка в небе стала точкой,
мы остались в одиночку с веком.
Наш удел давно известен —
чей земной, а чей небесный.
Все нам кажется, что честен случай.
Но уж если губы режут
удила, как на манеже,
так зачем себя надеждой мучить.
То рыдает, то хохочет
под дугою колокольчик.
Тройка скачет, куда хочет кучер.
То рыдает, то хохочет
под дугою колокольчик —
тройка скачет! И не хочет — скачет.
Встанут новые рассветы,
но всегда правы поэты —
вот, пожалуй, все, что это значит.