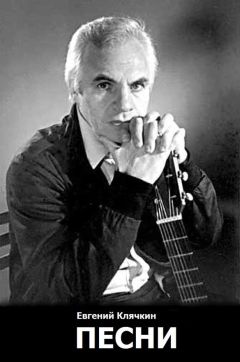Улица моя
По булыжной мостовой
чиркают копыта.
Гром телеги на камнях,
щелканье кнута.
Здравствуй, улица моя!
Думала, забыта?
Нет, не скольких ни бывал —
лучше, но не та!
Милый сердцу уголок
Знаменской и Спасской —
не под сению дубрав,
угол из камней.
Если хоть чему-нибудь
суждено остаться,
то вот этому углу
в памяти моей.
На доме трещина от верха до фундамента,
полсотни лет — а ни сошлась, ни разошлась.
Он словно склеен этой трещиною намертво,
она, как жизнь моя, с ним намертво срослась.
Дядя Паша-инвалид —
где ты, дядя Паша?
Риторический вопрос —
умер ты давно.
А вот Нинка расцвела,
Нинка — мука наша,
но не с нами собралась
Ниночка в кино.
Мы, конечно, мелкота —
нам всего двенадцать.
Нинка — девочка тип-топ —
ей пятнадцать лет.
И, конечно, нам за ней
сроду не угнаться…
Где ты, Ниночка, теперь?
Нет тебя, как нет.
На доме трещина от верха до фундамента,
и окна в окна через трехметровый двор.
Замки, сарайчики, поленницы — куда уж там!
И все венчает перекошенный забор.
Мишка-цыган был черняв —
может, и не цыган.
Но считался хулиган
и вообще — шпана.
Им пугали пацанов,
он сквозь зубы цыкал,
желтой фиксою маня —
жалко, что одна.
Как хотелось нам за ним
с девкой в черном платье,
под шифонный локоток
взять ее скорей.
Двор учил меня всему,
и заметим, кстати, —
заодно открылось мне
то, что я — еврей.
На доме трещина от верха до фундамента —
наш двор не тот, и только трещина все та ж.
И поднимают меня вверх ступеньки памяти
на мой четвертый, на последний мой этаж.
Ну а ты как, Витя-шпунт,
первый мой учитель?
Верка-булочница нас
помнит и теперь.
И диванчик не шумел —
это вы учтите,
и не пела поутру
в коммуналке дверь.
Вспоминать или забыть —
в этом нет вопроса:
сам себя не обойдешь —
плохо ль, хорошо ль.
И тем более потом
все решилось просто —
кончен двор, настала жизнь —
впрягся и пошел.
На жизни трещины от верха до фундамента,
как та, на доме, и никак не зарастут.
И мое семечко навеки в ней остается —
побеги всюду, корешочки только тут.
Друзья говорят, что мои песни становятся мудрее. Наверное, так и должно быть. Разные вопросы мы считаем важными в 20, 40 и 50 лет. Сейчас для меня крайне важно видеть в зале думающих, неравнодушных людей, которых волнуют общественные проблемы. Наверное, именно поэтому для меня самая сложная аудитория — подростковая, ведь я апеллирую к социальному опыту слушателя. Тему сострадания я считаю сейчас главной. «Улица моя», «Схема», «Письма римскому другу» — здесь она прослеживается очень четко. Впрочем, деление на «главные» и «неглавные» темы очень условно. Мои песни так же дороги мне, как и мои дети, — ни от одной из них я не откажусь сегодня.
1988, Владивосток
Мой джинсовый, всепогодный,
раз в году меняемый —
я надел его сегодня —
твердый, несминаемый.
Я на Бога уповаю
моего, еврейского,
бирочку «левайс» вшиваю —
жаловаться не с чего.
Жаловаться нет причины —
вот сижу и радуюсь:
солнце светит, я — мужчина,
и живой — не правда ли?
Поглядишь на вещи шире —
и смеяться хочется:
все прекрасно в этом мире,
когда гордость кончится.
Надо же — пока болтали,
в песне зубки режутся.
Как там струны на гитаре?
День еще продержатся?
Обуваю босоножки
на носок нейлоновый —
пусть все видят, кто идет:
трагик в роли клоуна.
Что-то ведь такое было —
ариозо Канио.
Ладно, это мы потом,
это — на прощание.
Мое место — возле банка,
метр-ва-хеци[29] в сторону.
Бокер тов[30], мадам-гражданки!
Что ж, начнем по-черному.
Аидыше[31] мама,
аидыше папа,
аидыше братик,
аидыше — я.
— Подайте, евреи,
— в аидыше шляпу.
— Аидыше сердце
стучит у меня.
Полноправный избиратель —
что могу, то делаю.
Сколько можете — подайте
в ручку мою белую.
Слушаешь? Ну значит — дашь!
Никуда не денешься.
Вам поет оле хадаш[32] —
бросьте в шапку денежку.
Я шел — позванивали мышцы,
ложилась под ноги земля.
А ловко у природы вышло,
что создала она меня.
И пешеходам было стыдно:
они ведь шли, а я — возник!
И это было очевидно
как для меня, так и для них.
И мне хотелось только,
чтобы всем было так же хорошо.
И тут мне подали автобус,
и вот я к двери подошел.
Я не полез — я был уверен,
что первый я, раз я — такой…
И тут же шмякнулся о двери
и получил удар ногой.
Вокруг хрустело и трещало,
но знал, но верил я,
что интеллектуальное начало
и здесь, конечно, победит.
Ведь как-никак цари природы,
и я уже хотел сказать,
что «человек» звучит, мол, гордо —
но тут мне сели на глаза…
Я шел — позвякивала мелочь,
и не смотрел по сторонам,
и почему-то расхотелось,
чтоб все глазели на меня.
Я брел на ощупь, будто ночью,
зато предельно уяснив:
что невозможно в одиночку —
то может дружный коллектив!
Для той, для первой половины,
что в девять месяцев длиной,
вполне хватило половины.
Чтоб опоясать шар земной.
Эпохам диктовались сроки:
Семь дней — на рыб, на птиц — три дня.
И как бы в книге как бы строки —
они составили меня.
Не зная ни труда, ни лени,
я невозможно богател.
От клетки вплоть до шевеленья
все было так, как я хотел.
А после — сладкое мученье:
сто жизней делались одной.
И начиналось воплощенье,
и некто становился мной.
Во тьме, но для меня — не черной,
без веса, без его оков,
упругой стенкой защищенный
от всех ударов и толчков,
я плыл по глади циферблата,
для всех — полупрозрачный шар,
и как сестра — ручонку брата,
мою — секундная нашла.
И плавно двигаясь по сфере
(для нас, по кругу — для нее),
она вела меня, как фея:
чужое — там, здесь — все твое.
И все, что надо знать о мире,
включая зубы и слова,
во мне уже вскипало, ширясь
и ожидая Рождества.
И лучшим, чем вот это время,
жизнь — и прекрасна, и нежна,
меня вовек не озарила.
Но я об этом не узнал.
Милая!
Чего ты нос повесила?!
Всегда с тобой нам весело
и никогда — всерьез.
Славная!
Ведь ты же знаешь: главное —
твоя походка плавная
и мой высокий рост.
Ах, толстая!
Иди поближе, нежная!
Тебя сейчас небрежно я
и пылко обниму —
иди, дурашка глупая!
Мы оба тупы — ты и я!
Мы оба глупы — ты и я.
К чему нам философия!
Я был мальчишка глупенький
и темноту любил.
Еще любил я девочек
и так-то вот и жил.
Мы встретились с ней вечером —
она была смела:
губами ли, руками ли —
она меня взяла.
Растаял, как конфета, я,
влюбился, как дурак.
Готов мою неспетую
таскать я на руках.
Насилу дня дождался я —
и вот она пришла…
Широкая и плоская,
как рыба-камбала.
Глаза — как две смородины,
а ротик — словно щель.
Ой, мама моя, Родина,
ой, где моя шинель.
С тех пор — к чертям романтику,
знакомлюсь только днем.
А если выйдет — вечером,
то лишь под фонарем.