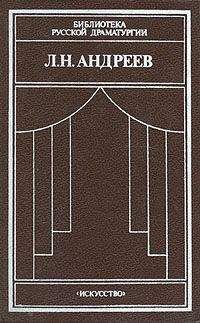миничной, которую принимает за Дездемону, с мальчишкой-са-
пожником («шершавым, грязным, в опорках» — как сказано в ре¬
марке); мальчик требует у трагика тридцать копеек за починку
галош, а тот отвечает ему монологом, обращенным к Яго («Мер¬
завец, ты обязан мне доказать разврат моей жены»), и так хва¬
тает его за шиворот, что бедняга в отчаянии зовет маму и с кри¬
ком убегает со сцены. В этом, собственно, и все содержание роли
Орленева, на которую съезжалась «вся Москва», и купеческая
замоскворецкая, и профессорская, и литературно-артистическая;
на орленевские водевили к Коршу ездили и Чехов, и Левитан, и
Станиславский, люди одного поколения, все трое родившиеся
в начале шестидесятых годов.
С этого водевиля началось знакомство Орленева с Чеховым.
Знаменитый писатель, недавно напечатавший «Палату № 6» и
«Рассказ неизвестного человека», пришел за кулисы к актеру-де-
бютанту и сказал ему: «Как вы чудесно играете сапожника. Осо¬
бенно хорошо это выходит, когда сапожник с ревом кричит, спа¬
саясь от трагика Несчастливцева: «Ма-а-а-а-ма». Мы пользуемся
версией Орленева, приведенной в его воспоминаниях. Чехов нигде
не упоминает об этой встрече, но его доброе отношение к Орле-
неву хорошо известно. Когда пять лет спустя он сыграл царя Фе¬
дора, Антон Павлович написал Суворину: «Я поздравляю Орле¬
нева и от души желаю ему всего хорошего; если не забудете, пе¬
редайте ему, что я рад за него. Это хороший актер, художник» 10.
Что же касается Орленева, то он относился к Чехову с благогове-
нисм и если мог: быть неточным в изложении бесед даже с Тол¬
стым, то чеховские слова тщательно записывал в свою заветную
книжечку, остерегаясь всяких импровизаций. Тогда в артистиче¬
ской уборной театра Корта он сказал Антону Павловичу, что его
водевильный сапожник — это в некотором роде «литературный
плагиат»; у Мансфельда мальчик не кричит, «этот момент» он по¬
заимствовал в старом рассказе Чехова «Беглец», где маленький
герой бежит почыо из больницы и, 'подавленный, растерянный,
остро чувствуя свою заброшенность, в отчаянии зовет «ма-а-амку».
Чехов, выслушав Орленева, улыбнулся и ответил: «А я этого рас¬
сказа не помню. . .»
Сколько труда вложил Орленев в роль мальчика-саиожника,
в которой было всего десять или одиннадцать обиходных, ничем
не примечательных фраз! Первым его источником, как я уже пи¬
сал, служила натура — тот мальчик в рваной одежке, с переко¬
шенным от страха лицом, которого он однажды встретил на улице
Нижнего Новгорода. Вторым — воспоминания: мать Орленева
была дочерью сапожника и не раз рассказывала ему, еще ре¬
бенку, о быте их семьи и часто сменявшихся учениках отца, кото¬
рые, как в водевиле у Корша, разносили заказы но домам и вы¬
маливали честно заработанные копейки. Третьим — впечатления
искусства: портретные черты для своего героя Орленев взял
в картине В. Е. Маковского «Свидание». Читатель спросит — не
многовато ли источников для случайной водевильной роли? Нет,
Орленев не жадничал и не был слишком предусмотрителен — он
собирал наблюдения, не сортируя их; процесс синтеза происходил
потом бессознательно. В какую-то минуту из этого разнообразия
возникала цельность и та конкретность, без которой не бывает
актерского искусства. Несколько поколений русских зрителей
увидели в веселой роли Орленева историю характера, детского,
еще нс установившегося, еще формирующегося, но уже вобрав¬
шего в себя целый мир контрастных красок: испуг и озорство,
беззаботность и озабоченность, беззащитность и цепкий инстинкт
приспособления*. Смена красок происходила мгновенно, и это
был не актерский аттракцион, не фокус, а снимок с натуры. Суть
же орлепевского синтеза заключалась в том, что мальчик-сапож¬
ник много знал о превратностях жизни и это знание ничуть не
убавило его сердечной доверчивости.
* В записных книжках Орленева мы читаем: «Чехов, когда смотрел мои
водевили «Школьная пара» и «С места в карьер», говорил: «Мне хочется
написать водевиль, который бы кончался самоубийством!» и. Сказано это
было весело и как бы в укор. По Орленев в словах Чехова услышал по¬
хвалу, потому что смех актера в его лучших водевильных ролях был уже
тогда в чем-то горьким, смехом сквозь слезы.
Здесь был уже тте жаттр, тте Константин Маковский, по тон¬
кости отделки Орленев в маисфельдовском водевиле поднялся до
высот чеховского портрета. И что важно: водевиль все-таки ос¬
тался водевилем — забавным, насмешливым, подвижным, без вся¬
кой нахмуренности, без перегрузок, без пореусложпоний. В книге
«Театр в моей жизни» Т. Л. Щспкина-Куперник писала, что,
когда Орленев «при своем очень маленьком росте с ролей маль-
чишек-подростков решился перейти на царя Федора, а затем
вообще па сильно драматический репертуар, в театре была прямо
революция. Но это проложило дорогу большей свободе актера
в выборе амплуа и позволило в конце концов Михоэлсу дать свой
оригинальный и значительный образ короля Лира, что было бы
совершенно невозможно лет сорок-пятьдесят тому назад» 12. Все
верно, с одной только поправкой: корпи «революции», о которой
пишет Щепкина-Куперник, надо искать еще и в ролях мальчи-
ков-подростков у Корша. И, продолжая ее мысль, мы вправе ска¬
зать, что из этой дали идет прямой путь к торжеству характер¬
ности в русском театре XX века.
Сапожный подмастерье с вымазанными ваксой руками открыл
серию водевильных ролей Орлспева плебейского начала — рас¬
сыльных, разносчиков, коридорных в гостиницах, лакеев, начи¬
нающих приказчиков и т. д. Несколько лет спустя, уже в петер¬
бургскую пору, Далматов спросил у Орлспева: почему его так тя¬
нет в «низы», к «некультурному» репертуару? Посмеиваясь, он
ответил: для равновесия, потому что другая половина его воде¬
вильных героев принадлежит к благополучным слоям общества.
Сколько сыграл он в те годы гимназистов, студентов, юнкеров и
других молодых людей, живущих в свое удовольствие, нимало не
заботясь о пропитании. Правда, в какой-то момент их беспечаль¬
ная жизнь осложнялась, и в налаженный, полусонный ритм (дей¬
ствие в этих водевилях чаще всего почему-то происходило в раз¬
гар лета на даче или в городском парке) врывалась буря, пусть
буря в стакане коды, по обязательно буря. От какой-то искры
вспыхивала любовь, и вместе с пей возникали препятствия, пу¬
стяковые препятствия, которые вскоре рассеивались, но пока что
расцветало чувство внезапно полюбивших друг друга молодых
людей.
Когда Орленев и его неизменная партнерша Домашева пере¬
брались в Петербург и продолжали выступать в старых и новых
водевилях любовно-лирического цикла, репортер «Петербургского
.листка» как-то спросил актрису: «Какие чувства вы любите изо¬
бражать?» Она ответила: «Люблю изображать молоденьких деву¬
шек с их рано пробуждающимся чувством любви, трогательной
душевной тревогой, невинным кокетством и грациозной ша-
лостыо — их внутренний мир мне дорог и понятен» 13. Этот ответ
многое объясняет в диалоге любви, вторым участником которого
был Орлепев.
До него роли влюбленных подростков у Корша называли «фи¬
сташками» и щелкали их дюжинами. А он относился к своим
гимназистам с такой серьезностью, что, по словам Кугеля, даже
открыл у них «душу Печорина и Аммалат-Бека»14. Он забав¬
лялся, дурачился, если был повод для мистификации — щедро
им пользовался, понимая, что деньги ему платят как комику-про-
стаку и что скупой Корш (постановка «Детей Ванюшина» Най¬
денова обошлась ему в 3 рубля 60 копеек, что мы знаем со слов
Н. М. Радина) не зря прибавил к его месячному жалованью два¬