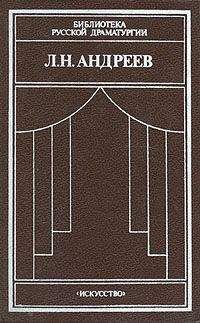грузках и такой интенсивности труда невозможность самораскры¬
тия для Орленева была еще трагичней; в конце концов бесцельное
действие хуже, чем просто бездействие.
Он не тянется к знаменитостям, не сравнивает себя с тем же
Далматовым, возможно, он пока ему во многом уступает, напри¬
мер в артистической технике. У него есть одно только безусловное
преимущество: он ближе, чем его старшие товарищи, подошел
к драме современного человека (вспомним, что на второй год его
работы у Суворина в Александрийском театре провалилась
«Чайка») —интеллигента, занимающего место где-то на низших
ступенях классовой лестницы. По терминологии века, его героя
можно назвать неврастеником, в самом деле — у него болезненно
обостренная чувствительность, неустойчивая психика, перемежа¬
ющиеся взлеты и спады духа. Только разве этот герой умещается
и границах такой патологии? Он человек уязвленный, неустроен¬
ный, издерганный, зависимый, ему впору до конца ожесточиться
и тта все махнуть рукой — а он верит в добрые перемены, хотя и
нe связывает с ними свою судьбу. В его самоотверженной филосо¬
фии, как будто подслушанной у чеховского Вершинина, есть эле¬
мент прекраснодушия, апологии будущего, уходящего куда-то
в даль времен. Но к Вершинину в этом случае надо еще добавить
Дмитрия Карамазова — от нежнейшей лирики орленевского героя
один только шаг до бурь и неистовства Достоевского: на одной
стороне — мягкость и неизменная расположенность к людям, на
другой — нетерпимость и бунт. В этом плохо согласующемся со¬
четании пассивности и натиска и была сложность того психологи¬
ческого типа «человека па распутье», драму которого хотел сы¬
грать Орленев. Но время для осуществления его замыслов еще не
пришло; пока он служил в труппе Суворина в ранге «полезности»,
и газеты писали о нем, как о молодом, очень способном актере
с неопределенным будущим.
В эти трудные сезоны было у Орленева и несколько светлых
дней, и мы не вправе пройти мимо них. Назову прежде всего
самую большую его удачу начала петербургской жизни — роль
Федора Слезкина в водевиле «Невпопад», сохранившуюся в ре¬
пертуаре актера вплоть до мая 1910 года, когда он ее сыграл
в первом спектакле крестьянского театра в Голицыне, под Мо¬
сквой. С затаенным дыханием слушала петербургская публика
монолог Слезкина «Только видите, сударь, был у меня вотчим»,
и в смехе ее явственно слышались слезы. Много раз подряд смот¬
рел «Невпопад» Суворин и восхищался игрой Орленева, тайной
ее непрестанных перемен и открытий, иногда совершенно микро¬
скопических, но все-таки открытий. Очень понравилась его игра
старому провинциальному трагику Любскому, фигуре легендар¬
ной, соединившей в себе первоклассный стихийный талант и бес¬
путство. Посмотрев «Невпопад», Любский сказал, что Орленев —
прирожденный драматический актер и что держать его на амплуа
комика-простака глупо и несправедливо. Ничего более лестного
услышать про себя он не мог.
Передо мной в некотором роде библиографическая редкость —
тоненькая тетрадка, написанная от руки и изданная в литогра¬
фии московской театральной библиотеки Рассохина с пометкой:
«Дозволено цензурой 22 января 1894 года». На обложке броская,
каллиграфически выполненная надпись: «Не впопад», комедия-во¬
девиль в 1-м действии (с польского), переделка А. К. Людвигова».
Читаешь эту пьеску и думаешь, что в год, когда ее особенно ус¬
пешно играл Орленев в Петербурге (1896), Толстой писал «Хад¬
жи-Мурата», а Чехов «Дядю Ваню». Но надо ли тревожить ве¬
ликие тени, чтобы оценить по достоинству сочинение Людвигова,
ведь и на фоне расхожей репертуарной драматургии девяностых
годов «Невпопад» не блистал достоинствами.
У молодого московского барина, в сущности, люмпена, живу¬
щего в кредит, в расчете на выгодную женитьбу, служит лакей
Федор Слезкин. Но как барин не вполне барин, так и лакей не
вполне лакей. Злая судьба загнала крестьянского сына в город,
он нищенствовал, дошел до крайности, пока легкомысленный, но
сердечный барин не взял его прямо с улицы. С тех пор прошло
два года, Федор Слезкин живет в сравнительной сытости и оза¬
бочен только тем, как ему отплатить добром за добро.
«Есть у меня билетик за целковый, купил на лотерею, ежели
выиграю, то, разрази меня на этом месте, все барину отдам!» —
говорит Слезкин. Да что там билетик, он готов ради барина
«прыгнуть с Ивана Великого». Разумеется, это только метафора,
но у воодушевления бедного лакея есть такие жертвенные мо¬
тивы. От его преданности и усердия происходит комическая пута¬
ница в пьеске. В каждом слове Слезкина оказывается второй,
скрытый смысл, и, чем ревностней он служит барину, тем больше
доставляет ему хлопот и неудобств. Это достаточно смешная исто¬
рия, но с неприятным слащавым привкусом, какая-то лакейская
идиллия во вкусе Гостиного двора. В финале, когда все перипетии
водевиля уже позади, Слезкин произносит монолог, в котором
трогательно признается, что линия его жизни определилась: он
будет нянчить детей барина, если придется — дочку, но «лучше
сына».
Мы знаем, что игра Орлсиева не раз превращала картонных,
муляжных героев современного репертуара в людей из плоти и
крови. В таких случаях, не слишком считаясь с автором, он об¬
ращался непосредственно к натуре и строил роли по ее законам
и моделям, даже если это был водевильный персонаж из какой-
нибудь «Бедовой бабушки». Со Слезкиным все обстояло иначе:
для роли услужливого лакея нужно было не углубляться в на-
туру, а подняться над ней. И Орленев со свойственной ему инту¬
ицией избрал путь сказки; в его обширном репертуаре не было ни
одной другой роли, где бы он так близко подошел к мотивам
фольклора, как в этом водевиле. У Федора Слезкина оказался до¬
стойный предок — бессмертный Иванушка-дурачок. В литературе
и музыке народно-поэтическое мышление часто служит средством
очищения и обновления реализма, если он становится приземли-
стым и обуднивающим, как любили говорить в старом МХАТе.
В театре такие заимствования из фольклора встречаются гораздо
реже, особенно в театре конца XIX века. Тем интересней орленев¬
ский Слезкин, лицо поэтическое, безотносительно к роду его за¬
нятий и смыслу его монологов.
«Невпопад» — переделка с польского, но предусмотрительный
Людвигов обставил этот водевиль московскими реалиями, даже
язык здесь откровенно стилизованный в духе издателя «Москов¬
ского листка» Мясницкого. Естественно, что совсем уйти от быта
в роли Слезкина было невозможно, но Орленев сделал все воз¬
можное, чтобы уйти хоть отчасти. Прежде всего он приглушил
приказчичьи-дворницкий жаргон автора, не менял и не выдумы¬
вал слова, а просто отказался от уродливо-холуйской их окраски,
от лакейских «прошу-с», «слушаюсь-с», как будто прочел напи¬
санное еще в мае 1889 года письмо Чехова брату Александру, где
есть такая фраза: «Лакеи должны говорить просто (речь идет
о лакеях в пьесах.— А. М.), без пущай и без теперича» 17. Помимо
чисто художественных интересов реформа Орленева преследовала
и другую цель — его сказочному герою не нужны были подчерк¬
нутая характерность, местный языковый колорит. Федор Слез-
кин — добрая душа, чудак, выдумщик — это поэтическое обобще¬
ние, а не реальное лицо.
Обыкновенные житейские критерии в его случае не вполне
применимы, он действует по своей логике («Я все по правде, а они
все с умыслом»), действует с позиции добра, я бы сказал, ин¬
стинктивного, идущего от внутренней потребности и далеко не
всегда контролируемого разумом. 13 одной из русских сказок про