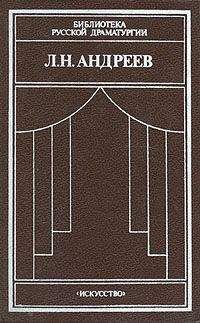хова «из области вечного, к которому нельзя относиться без вол¬
нения»! Так чего же нам упрекать безвестного Альцеста, по¬
истине оказавшегося у времени в плену. Но, поскорбев о судьбе
Орленева, одесский критик не удержался от соблазна и предста¬
вил его своим читателям совсем не таким, каким он был на самом
деле.
Статья Альцеста называется «Певец бессилия», и в ней гово¬
рится, что создатель образов «женственной нежности, мягкости,
голубиной кротости» Орленев заслужил любовь «хилой интелли¬
генции», потому что оправдывал ее бессилие и немощность («до¬
ставил ей тот обман самооправдания, которого она невольно ис¬
кала»). В этих словах по крайней мере две неправды — одна
фактическая. Был ли в старой России хоть один уездный город,
где не побывал Орленев со своей труппой в годы его гастролер¬
ства? Какой географический узор складывается из его дошедших
до наших дней писем и телеграмм, помеченных Владивостоком и
Белостоком, Архангельском и городами Закаспия и т. д. Он был
одним из первых русских актеров-просветителей, и его аудито¬
рию, включая сюда и подмосковных крестьян, даже самый при¬
страстный историк не назовет «хилой интеллигенцией». И почему,
собственно, она хилая, если к кругу почитателей его таланта при¬
надлежали Чехов и Луначарский, Стасов и Шаляпин? И вторая
неправда, уже смысловая, она-то и побудила нас прервать ход
изложения и обратиться к статье пятидесятилетней давности.
Здесь все поставлено на голову. Тревожное, беспокойное, раня¬
щее душу искусство Орленева, развивавшееся в русле Достоев¬
ского, по версии Альцеста, служило утешительным обманом, от¬
дохновением для усталых душ. Нам говорят, что это искусство
было апологией бессилия, мы же убеждены в том, что оно было
трагедией бессилия.
Знакомясь с разбросанными в архивах письмами актера,
с опубликованными и неопубликованными воспоминаниями его
современников, с иностранными источниками (его гастроли в Ев¬
ропе и Америке породили большую литературу, часть которой
нам удалось собрать), понимаешь, что трагедия А. К. Толстого
заставила Орленева задуматься о бессилии добра, когда оно
только добро. Эта мысль преследовала его, жгла его: почему все
Дон Кихоты в мировой истории безумцы, почему мудрость, коль
скоро у нее практическая задача, предполагает, как некий состав¬
ной элемент, хитрость и даже злодейство, о чем говорит пример
несимпатичного ему Бориса, почему в добре без тайного умысла,
без тактики, без союза с насилием нельзя найти «опору»? Что
это — закон жизни и ее развития или несправедливость, которую
человечество устранит в ходе своего исторического движения?
Вопросы эти ставили Орленева в тупик, он не знал на них ответа
и с тем большей искренностью и надрывом играл трагедию Фе¬
дора, трагедию бессильного добра.
И эта искренность была такой заразительной, что даже сла¬
вившийся своим практицизмом Суворин, политик и человек маки-
авеллистского толка, в статье о «Царе Федоре» попытался оспо¬
рить философию А. К. Толстого, выраженную в словах Годунова:
Но для чего вся благость и вся святость,
Коль нет на них опоры никакой!
«Когда это говорит Годунов, то его речи можно найти основа¬
ние в его характере»,—пишет Суворин в «Новом времени»,— но
когда «сам автор того же мнения, то ему можно возразить, что
доброта (любовь и благость) сама по себе активна, сама по себе
«опора» и влияет даже на таких людей, как Годунов» 35. Несом¬
ненно, что эти не очень вяжущиеся с образом Суворина строки
написаны под прямым воздействием орленевской трактовки Фе¬
дора. Получается даже некоторая симметрия: доброе влияние
Федора на Бориса как бы повторяется в новой соразмерности
в отношениях Орленева и Суворина...
Теперь, когда нам известно, как Орленев задумал царя Фе¬
дора, следует хотя бы бегло познакомиться с движением его роли
от акта к акту. Современные психологи говорят, что, если ребе¬
нок не знает названия вещи, он как бы ее не видит. Нечто похо¬
жее иногда происходит и с актером, не зря ведь Станиславский
придавал такое большое значение образному определению сверх¬
задачи роли, ее «меткому словесному наименованию» — ведь
в названии есть уже начало познания. Попробуем в нескольких
формулах-метафорах обозначить самые характерные и запомнив¬
шиеся моменты игры Орленева в трагедии.
Газеты писали, что, как только послышалась первая реплика
Федора — его обращение к стремянному, по залу прошла «тре¬
петная искра». Стоило хоть раз услышать напевный, с растяжкой
на гласных московский говор Орленева, чтобы запомнить его на
всю жизнь. Можно ли по голосу судить о характере человека?
Оказывается, можно. В голосе Орленева была его доброта и тре¬
вога, его доверчивость и обидчивость, его юмор и неврастения,
и все эти краски сменялись как бы сами собой, с плавностью,
скрадывающей паузы. А голос был у него несильный, и особую
прелесть ему придавали чуть диссонирующие хрипловатые ноты.
Первая сцена с Федором длилась недолго; Орленев вел ее
в обычном для него нервно-подвижном темпе, но без торопливо¬
сти, как бы выигрывая время для психологических наблюдений.
Понадобилось всего несколько реплик, чтобы перед аудиторией
возник характер живой, несомненно болезненный («надрывный
голос, впалая грудь, неуверенная поступь»,— писал А. Волынский
о первом появлении Федора в спектакле !) и, несмотря на то, при¬
ветливо-дружественный ко всему вокруг, беззлобно-милый. Впе¬
реди были потрясения, кровь, начало смуты в Русском государ-
стве, а пока мирно текла ничем не омраченная частная жизнь
царя Федора Иоанновича. Есть в этой сцене небольшой диалог:
усталый и голодный Федор, вернувшись из дальнего монастыря,
спрашивает у Ирины: «...я чаю, обед готов?», она отвечает: «Го¬
тов, свет-государь, покушай на здоровье!», и тогда он, удовлетво¬
ренный, говорит: «Как же, как же! Сейчас пойдем обедать».
И этот нарочито прозаический диалог дал толчок воображению
Орлепева.
И не только потому, что в этой подчеркнутой обыденности
была прямая полемика с парадностью так называемых боярских
пьес, заполнявших репертуар в девяностые годы. Причина
глубже — уже в первые минуты действия Орленев нашел повод
напомнить аудитории, что Федор при всей его отрешенности и
схимничестве не довольствуется только постничеством. Предо¬
ставленный самому себе, не стесненный государственными обя¬
занностями, он ведет себя как все люди — не вполне обычный че¬
ловек с обычными человеческими потребностями. В непринужден¬
ности была привлекательность этой сцены, «вступительного ак¬
корда» к трагедии с его щедрым узнаванием, говоря языком
аристотелевской поэтики. «Несмотря на краткость явления», сви¬
детельствовал тот же Волынский, облик Федора был «намечен
в верных и незыблемых чертах».
Никакой предписанности, полная раскрепощенность и детская
любовь к игре. Откуда эта инфантильность Федора? Может быть,
так природа хочет возместить горькие потери его детства «без-
матерного сироты», выросшего под гнетом Грозного. Игра—
стихия этого акта, она принимает разные формы: сперва Орле¬
нев ведет ее строго, потом появляется мотив великодушия, по¬
том невинного притворства, потом шутки и т. д. В самом начале
в разговоре со стремянным Федор настроен решительно, в голосе
его звучит обида и даже раздражение — надо проучить дерзкого
коня, не давать ему овса, только сено! Пусть будет ему урок!
Как видите, логика у героя детская, одаряющая разумом все, что
только дышит. Когда же выясняется, что конь старый, ему два¬