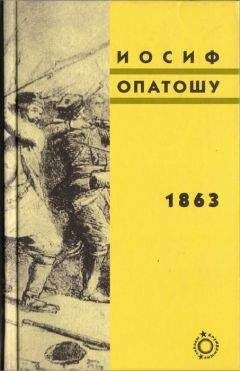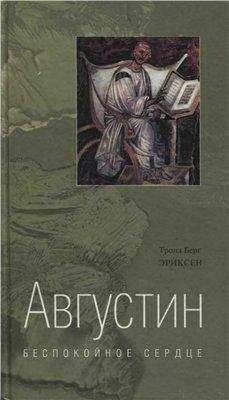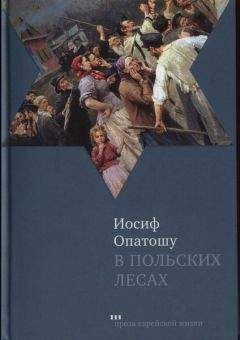Прядь волос на голове графа, искусно уложенная слева от пробора, упала на лоб, сверкнул глаз под моноклем. Он вытер стекло шелковым платком, и в глазах появился серый блеск, как у мутной, не отстоявшейся воды.
Бакунин улыбнулся, довольный, что одним взглядом может обуздать столь наглого юнца, как граф. Он смотрел на их лица и удивлялся, что один выглядит как собака, другой — как волк. У этого были острые уши, как у осла, у того — круглое лицо и выпученные глаза, как у тигра. Он, Бакунин, всех согнет в бараний рог, всех поставит на свое место, никто не посмеет отбить у него Ядвигу.
«А где отрицание, которое должно заключать в себе всякое развитие? — вдруг мелькнуло в его взволнованном мозгу — каждая мысль в его затуманенной голове жила отдельно. — Ведь именно так вел себя дикарь, превратившийся через тысячи лет в этого напомаженного графа. Из того примитивного вида сегодня не должно было остаться ни одного самца».
— Михал, почему ты мне не отвечаешь? — Ядвига ходила вокруг мужа, ее глаза светились, словно фосфор.
— А?
— Мы поедем с ними? — Она кокетливо гримасничала и играла голосом так, будто говорила не с мужем, а с графом.
— Мы поедем, Ядвига, обязательно поедем.
Маленькая Ядвига даже подпрыгнула от радости и исчезла среди юношей.
— Я его не люблю, этого русского! — сказал Норвид Гессу.
— Весьма серьезный и беспокойный человек.
— Серьезный человек не сравнивает церковь с кабаком и не видит единственный выход в кровавой революции.
— Вы, господин Норвид, против восстания?
Норвид замолчал и погрустнел; его лицо побледнело, став похожим на лик святого.
В углу на табурете сидела, сгорбившись, девушка в красной блузке и пела «С дымом пожаров»[45]. Негромкий, болезненный голосок, худенькие плечи. Ее почти не было слышно.
Ее тихое пение растрогало Мордхе, как и грусть в глазах Норвида, огорчение Шодны. И чем громче звучала песня, тем беспокойнее становился Шодна. Черные торчащие в разные стороны волосы, мрачное лицо с подвижными ноздрями — он напоминал сильное животное с острыми зубами, цепкими когтями и ненасытной утробой.
Мордхе сделал вид, что не замечает, как осунувшаяся Леонора с огненными волосами, озираясь, собирает со столов куски пирога и прячет их в складках своего платья. Ее острые плечи поднимались в такт ее движениям, будто сама смерть танцевала над столами.
Норвид наклонился к Гессу:
— Люди запятнали пролитой кровью высокую цель.
— Так, наверное, говорит и Бакунин, — ответил Гесс еще тише. — И все-таки без этого не обойтись. Если вы против кровопролития, как же тогда освободить Польшу?
— Поляк во мне поддерживает восстание, а католик — против.
— Я вас понимаю, господин Норвид, но этого нельзя избежать, и, если речь идет об освобождении угнетенного народа, на это надо смотреть проще, как, ну скажем, на катастрофу, вызванную наводнением или землетрясением.
Граф Грабовский, одетый по последней моде, гоголем прошел мимо Терезы, как молодой офицер проходит со своей ротой перед старым воином. Он удивленно посмотрел на нее и обрадовался:
— Добрый вечер, мадемуазель Тереза, что вы тут делаете?
— Пришла попрощаться с вами. — На лице Терезы появилось беспокойство.
— Спасибо, мадемуазель, вы одна?
— С другом.
— И вы ничего не знаете, что я ищу вас повсюду в течение последних недель?
— Если б я знала! — Тереза была не прочь поддержать непринужденный разговор между мужчиной и женщиной, которым есть что скрывать.
— А кто ваш друг?
Она повела головой и указала через зал на Шодну.
Грабовский оценивающе посмотрел на нее, как красивые мужчины смотрят на женщин, и подумал, что Тереза помолодела и похорошела. Его взгляд запутался в складках ее платья.
Заметив это, Тереза пожалела о своем развязном тоне и хотела отвернуться, но граф схватил ее за руку и посмотрел в глаза, словно имел на нее какие-то права:
— Вы в самом деле с Шодной?
Грабовский увидел усмешку на ее губах и расхохотался.
— Отлично, мадемуазель, куда вы спешите? Я вас сегодня никуда не отпущу! Пойдете со мной! Что вы так смотрите?
— Оставьте меня! — Тереза нахмурилась.
— Не сегодня!
— Пустите, говорю вам! — Она выдернула свою руку из его руки и быстрым шагом направилась в другой зал.
Граф посмотрел ей вслед и с глуповатой ухмылкой подмигнул знакомым.
В зале воцарилась беспокойная тишина. Присутствующие стали переглядываться и вслушиваться в собственное молчание. Горящие глаза спрашивали: «Что? Что случилось?»
Мордхе почувствовал взгляды окружающих и увидел Терезу. Девушка сидела в углу, как прокаженная. Щеки ее пылали, а невидящие глаза уставились в одну точку. Мордхе подошел к ней:
— Тереза, что случилось?
— Ничего. — Ее лицо ничего не выражало.
— Тебя кто-то обидел?
— Никто меня не обидел.
— Почему ты так побледнела? Тебе нехорошо?
— Вон тот, видишь, блондин…
— Граф Грабовский?
— Да, он со мной встречался…
— И что?
— Он меня узнал. — В ее голосе слышались слезы.
У Мордхе кровь прилила к вискам. Ему стало все ясно. Он понял, что окружающие недоумевают, стоило ли брать с собой на такое важное мероприятие уличную девку.
Он пытался отыскать взглядом Кагане. Почему вдруг его? Разгоряченные лица вырастали из темноты, одно из другого, одно из другого, в воздухе парили носы. Мордхе удивился: носы должны были принадлежать людям. Рядом с собой он увидел Сибиллу.
Сибилла ласково обняла Терезу, заговорила о вечере, сделала комплимент ее белым пальцам и сказала, что завидует юношам, отправляющимся воевать за свободу Польши. Тем самым Сибилла дала присутствующим понять, как нелепа их буржуазная мораль.
Мордхе был ей благодарен за себя, за бедную Терезу, в чьей распущенности было так много благопристойности.
Он поглядел на Гесса, Бакунина, Норвида, на остальных он боялся смотреть. Скоро все закончится, обязательно закончится. Ему нужно только отвести взгляд от угла, и большой круг, который все время увеличивался, сомкнется. В его центре появились реб Менделе, босой Исроел, высеченные парубки, парижские бездомные, и все настойчиво рвались к нему.
Мордхе прожил с Терезой несколько месяцев, обращался с ней как с сестрой, гася в себе любые порывы, и что теперь? С его отъездом в ней пробудится порочность, скрывающаяся за праведностью, и к преследователям Мордхе присоединится еще и Тереза.
Темная ночь призывно стучала в окно. Мордхе вдохнул суету, царившую в зале. Он воспарил над окружающими и стал отдаляться от Гесса, от Бакунина, от Норвида. В пространстве, которое образовалось между ними, трепетали их души, они сливались с бесконечностью и мучились от боли.
Рядом с Мордхе все еще стоял светловолосый граф со своей свитой, он болтал и смеялся. Этот самовлюбленный человек почему-то считал, что вечеринка устроена в его честь.
Мордхе выпил бокал вина, второй, третий. В голове прояснилось. Он услышал, как прощается Норвид, за ним — Гесс. Человек с широким скуластым лицом потягивал вино из бутылки и кричал жене, которая без устали флиртовала с юношами:
— Ядвига, дитя мое, иди спать. Уже поздно, Ядвига.
Она даже не оборачивалась, будто эти слова ее не касались, а были направлены в пустоту. Детский смех Ядвиги теперь звучал резко, как это бывает у пьяных женщин.
И чем больше пил Бакунин, тем больше хмурились его густые брови, нависающие над глазами, как щетки. Широкое лицо затуманилось и помрачнело. Глаза загорелись огнем, готовым в любую секунду рассеять туман и вызвать ураган.
Он протянул руку, указывая на пустое место, где недавно сидел Гесс, и пробормотал:
— Я его не люблю, Маркса я тоже не люблю, я вообще ненавижу евреев! Они не революционеры, ни Гесс, ни Маркс, они не знают, что такое свобода. Несчастные буржуи!
Широкое скифское лицо все мрачнело, скрывая границу между духом и материей, и из этой бездны то и дело показывался великан, отряхивающий пыль, которой его засыпали люди. Это продолжалось недолго, и его глаза снова мутнели и становились все уже и уже.
С пьяной добротой Бакунин обнял Мордхе, и из его беззубого рта, как из темного подземелья, посыпались слова:
— Я плохой человек, неприятный. Я всех оскорбляю. Я не узнаю людей, с которыми встречаюсь несколько раз в день. Я не подаю руки знакомому, когда тот хочет со мной поздороваться, и, несмотря на все по, все суетятся вокруг меня, улыбаются, когда говорят со мной, делятся со мной слухами, словно они обязаны стоять передо мной на четырех лапах, чтобы мне было куда положить ноги. Если я что-нибудь пишу, то получаю в ответ кучу писем. Самый сдержанный отзыв, который они могут мне написать, — что моя вещь гениальна. Мерзавцы, кому, как не им, знать, что я уже несколько лет не написал ничего такого, что можно было бы читать!