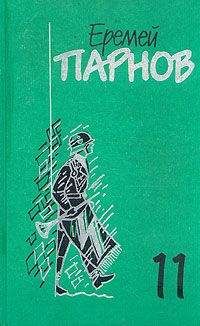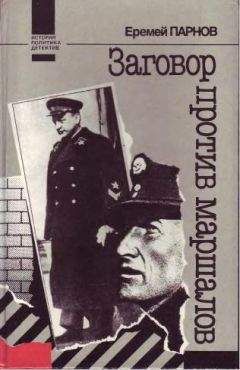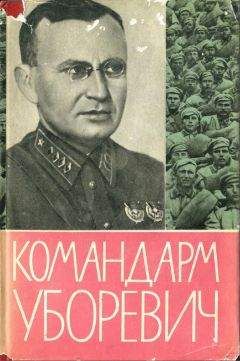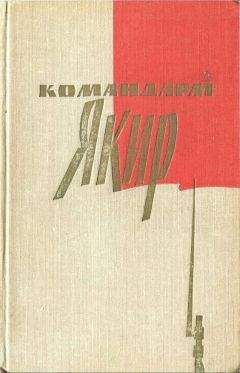— Предположим, я соглашусь немножко помочь дядюшке Джо,— в разговоре со Скоблиным он решил сыграть напрямую.— Но чтобы попусту не трудиться, я должен знать, на ком конкретно сосредоточиться. В разное время и по разным поводам у нас перебывало слишком большое количество людей. Маловероятно, чтобы все они вдруг оказались заговорщиками. Вам не кажется, что в это трудно будет поверить?
— Поверить? — по лицу Скоблина пробежала вымученная, словно бы неживая ухмылка.— Я так представляю, что это уже не наша забота.
— И все же, господин генерал, хотелось бы больше определенности. Предпочитаю действовать наверняка.
— Круг лиц не столь уж широк, чтобы долго ломать голову. Окончательный выбор облегчит имеющаяся у вас информация, если, конечно, ее удастся нужным образом подать.
— Иными словами, вы не располагаете точным списком?
— Ни точным, ни каким-либо иным. Как вы понимаете, его просто не может быть в природе. В том-то и состоит существо плана, что мы берем на себя смелость поразмышлять за противника. Полагаю, что не слишком ошибемся.
— Хорошо,— Гейдрих встал, дав понять, что беседа окончена.— В самое ближайшее время вас проинформируют о моем решении.
Пожалуй, он не был так уж разочарован. Скоблин сказал именно то, что мог или должен был сказать в сложившейся ситуации.
Радио передавало, что на улицах Мадрида завязались бои между повстанцами и рабочей милицией. Часть войск осталась верной правительству. Астурийские горняки сформировали вооруженные отряды в поддержку республики. Фалангисты вместе с марокканскими формированиями вступили в Севилью.
— Наша борьба представляет собой не только испанскую, но и международную проблему. Я убежден, что Германия и Италия сочувствуют нашим целям,— сделал заявление для иностранных газет генерал Франко.
Гейдрих позвал домоправителя (он состоял в чине унтерштурмфюрера) и распорядился договориться о встрече с адъютантом полковника Коновальца.
Театр начинается с вешалки? Похоже, что виселицы начнутся с театра.
Фантом материализовался. И в том, что лик оборотня ни единой черточкой не напоминал о волчьем оскале, была гениальная находка создателя. Художественное провидение, уловившее музыкальную гамму эпохи. Позывные ее.
У кинотеатров, где демонстрировался «Партийный билет», выстраивались длиннющие очереди. Перекупщики брали вдвое и втрое.
Вот, оказывается, какой он, враг народа... Мерзкий пес, ядовитая гадина, а как выглядит? Влюбиться можно! Разве такого раскусишь? Тем опаснее. Тем зорче следует всматриваться в лица. Никому нельзя доверять — ни жене, ни мужу. «Тип умного, смелого и этим еще более опасного врага»,— выразила общее мнение «Правда», откликнувшись на новаторскую ленту Ивана Пырьева похвальной рецензией. Шпион и предатель Советского государства, убийца Павел (артист Абрикосов) разоблачен женой Анной. Теперь зритель видит подонка глазами прозревшей советской женщины. Оборотень предстает в его истинном облике. Он жалок и мерзок, его хочется поскорее раздавить, как вредное насекомое.
Впечатление оказалось настолько сильным, что в органы стали поступать заявления, разоблачавшие инженеров и местных партийных работников, чем-то похожих на мужественного красавца Абрикосова. Усердно писали брошенные жены. Об этом со смехом рассказывал замнаркомвнудел Берман. Наверное, были сигналы и посерьезней.
За разносами театральных постановок, выставок живописи, творений зодчества зловеще проглядывало стремление подогреть истерию. Определенно что-то готовилось.
Призраки, коих гонят прочь, обретают свободу во сне. Поэтому театр — этот праздничный сон наяву — превратился в зону особого назначения. Подобно газетам, в которых — старая российская привычка — наловчились вычитывать между строк порой вовсе и несуществующее, освещенная сцена давала выход задавленным чувствам. В слове мудрецов и поэтов, в интонациях и манере актерской игры искали ответ на вопросы, которые лучше не задавать. И как восторженно, как созвучно бились сердца, когда казалось, что приоткрывается некая общая истина, где, как в волшебной чаше, можно увидеть свое тайное отражение.
Благосклонное внимание высочайшего мецената еще более распаляло страсти, кипевшие вокруг театральных подмостков. Тут скрещиваются не только видимые всеми прожектора с их разноцветными светофильтрами, но и лучи невидимые, подобно рентгеновским, просвечивающие насквозь грудные клетки и черепа. И часто в мертвенном свете неведомо где установленного экрана те, кому это положено, видели совсем не то, что в натуре. В замкнутом кругу самообольщения и начальство, и рядовая публика, всяк со своей колокольни, выискивали намеки.
Не проходило и недели без очередного разноса. И всякий раз звучал трагическим шепотом вопрос: «За что?» Редакционная статья «Сумбур вместо музыки», с которой начался театральный год (буквально на следующий день после триумфа маленькой Гели), была у всех на памяти. От нее отталкивались, как от эталона.
Но тут по крайней мере были ясны истоки: Сталин, разгневанный и музыкой, и сюжетом,— томление духа выливается в преступный бунт,— покинул ложу. Сложнее оказалось разобраться с набиравшими градусы обличениями «мейерхольдовщины». «Клоп», «Баня», «Мистерия-буфф» — это же наше, революционное. Это же Маяковский! «Лучший, талантливейший»... Но не перевелись памятливые умники на Москве.
Завзятые театралы вспоминали «Землю дыбом». Кое-кто сохранил и афишу той давней, двадцать третьего года, премьеры: «Красной Армии и Первому Красноармейцу РСФСР Льву Троцкому работу свою посвящает Всеволод Мейерхольд».
Вот и достукался. Негоже художнику заискивать перед властью? А как быть, если все вокруг государственное? И власть требует прославления, даже классику переиначивая в угоду себе?
— Театр, чуждый народу, обществоведению, истории,— изрекает Молотов, посетив премьеру в Камерном. Его дочурка Светлана, наморщив лобик, дает оценки почтительно склоненному режиссеру Таирову. Климент Ефремович, покровитель искусств, тоже поучает. На сей раз — автора пьесы.
На что уж Всеволод Вишневский — гроза гнилой интеллигенции и тот репреманда не избежал. Правда, дружеского, в форме совета: «Как это может получиться, чтоб погибала армия?» — «Даю слово большевика в три дня исправить концовку. Армия не погибнет, погибнет только комиссар». Так прямо и отрапортовал, в бравом военморовском стиле, с каким громил Булгакова, Пильняка, Колбасьева. Приказ дан, приказ выполнен. Злые языки говорили, что Вишневский приходил на читку с маузером, который, как пресс-папье, прижимал листы рукописи. Легко тому, кто так может, а кто не может? И причем, позвольте спросить, здесь святое искусство? Если Таирова с блистательной Коонен и тех начинают понемножку поклевывать, то с чем, извините, останемся? С театром зеков? Из зоны в лаг- клуб труппа шагает строем. Стрельников, сменив бушлат с номером на фрак, лезет в оркестровую яму. Начальник крепостного театра великой эпохи тоже дает премьеру — «Холопку».
Булгакова «Правда» ударила с особым коварством: «Внешний блеск и фальшивое содержание». Казалось бы, какую фальшивку можно усмотреть в постановке филиала МХАТа «Мольер»? Историческую? Но исторический фон достоверен. Идейную? Но без натяжки трудно перекинуть мосты от эпохи Людовика-Солнце к историческому материализму. Намек на абсолютизм? Хорошо-с, предположим на минуточку, что Людовик — это Он. Кто же тогда Мольер? Сам Булгаков?,.
То-то и оно, что все не так просто.
Рецензент высмотрел главное — общечеловеческую трагедию и, в чем, собственно, весь ужас, не постеснялся записать это в вину. Не в прямую, понятно, более тонко, через реплику Мольера (артист М. Курейко из Чимкента): «Ваше величество... ведь это же бедствие, хуже плахи... За что?!»
Вот именно: «За что?»
Чего и говорить: звучит убийственно современно. Отсюда и тон, и грозный оргвывод: «Яншин (Бутон) своей игрой лишь усугубляет порочность пьесы».
Бедолага Яншин просто подвернулся под руку. Играл талантливо, весело, не усугубляя. Требовалось за что-нибудь уцепиться, дабы сформулировать обвинение против драматурга и труппы, вот и хлопнули по Яншину (Бутон). Любой актер (персонаж) мог бы оказаться на его месте.