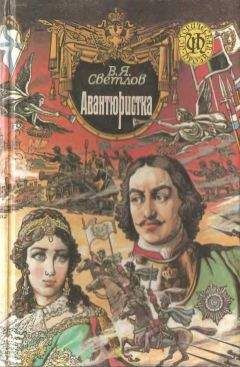Стрешнев с ясно выраженным удивлением посмотрел на жену.
— Так нешто это оправдание, Наташа? Смерти ей мало за такое богопротивное дело! А за то, что она сейчас с тобой сделала? С тобой, которая полюбила ее и пригрела! Зверь лютый она, а не женщина…
— Так, Никитушка, так… Одначе, может, она и не нарочно столкнула меня…
Он отрицательно покачал головой.
— Не может того быть, — твердо сказал он. — По подлым глазам ее видел я, что нарочно.
— Ну, Бог простит ей, коли так. А я ей давно все простила.
— Ты добрая, кроткая голубка, Наташа. Но преступление ее требует наказания. Так отплатить нам за то, что мы ее приютили…
— Да ведь ты взял ее насильно, Никита. На себя и пенять нужно…
Он потупил взоры и вздохнул тяжелым глубоким вздохом.
Наталья Глебовна вдруг взяла его руку.
— Никитушка, — сказала она ему, и в голосе ее было столько ласки, что сердце Стрешнева дрогнуло, — вот что я придумала. Жизнь твоя со мною печальна. Детей у нас нет, да, видно, и не будет уж никогда… В голосе ее зазвучала глубокая тоска. — Жить так, как мы живем — нечестно. Надо жить по-Божьему. Хочу я освободить тебя… Что мне делать одинокой, нелюбимой на свете?..
Он хотел возразить ей горячим любовным словом, но она не дала ему сказать его.
— Ах, нет, Никитушка, я не корю тебя. Не для того повела я речь эту. Не волен человек в сердце своем и не пристало ему любить ту жену, которая не может дать ему утех родительского чувства. А ее ты любишь…
— Наташа… — горячо возразил он.
— Ну, любил, Никитушка, разве я не знаю, что ли? Полюбишь и вновь, когда я не буду торчмя стоять на вашей дороге. Да и она исправится и полюбит тебя, коли будет твоей хозяйкой, а не наложницей… А мне все равно коротать век свой, что здесь в одиночестве, что в святой Господней обители… Там-то еще лучше… Молиться я буду за тебя, Никитушка, да за твое счастье. Пусти меня в монастырь, милый мой! Любовь моя от того не станет к тебе меньше.
— Да что ты, Наташа, Христос с тобой! Как тому быть? Чтобы ты из-за Марьи пошла в монастырь… Никогда тому не бывать, моя женушка. А что так жить, как живем мы, нечестно, это — правда твоя…
Стрешнев был потрясен и глубоко тронут таким самоотвержением своей жены. Он женился на ней, с детства любя ее, любил и теперь— только тихой, ровной, спокойной, совсем иной любовью, чем Марью Даниловну.
Ему трудно было уже представить себе, что дом его опустеет по уходе Наташи, и что потом ее место, место этой кроткой и доброй женщины, займет бессердечная и беспокойная женщина с темным происхождением и темными на душе грехами.
— Нет, нет! — горячо вскрикнул он. — Тому не бывать, никак не бывать!
Его поразило вдруг то обстоятельство, что в один вечер, одна за другой, обе женщины, которых он любил, каждую особой любовью, запросились уйти от него.
Любовь его, значит, не дала ни одной из них не только счастья, но и простого удовлетворения.
— Да, так жить — нечестно! — еще раз задумчиво произнес он. — Нужно жить по-Божьему, Наташа! Еще раз прошу тебя— прости меня. Забудь, что было, и это не повторится уже больше. Не кори меня прошлым. Я тоже забуду его. Пусть жизнь пойдет у нас по-прежнему, по-хорошему. Я люблю тебя, никогда любить не переставал, а с тех пор, как увидел тебя на краю гибели — я не знаю, что сталось со мною. Я полюбил тебя в те поры сильнее и возненавидел ту, которая учинила над тобой это гнусное дело… Прости же меня, женушка моя милая!
— Спасибо тебе, Никитушка, за эти слова, — ответила ему Наталья Глебовна. — Делай, как знаешь… Но знай также, что, если тебе опостылит жизнь со мной, я с тихой радостью уйду в монастырь. Жил бы ты только счастливо и не поминал бы меня лихом.
— Тебя поминать лихом! — возразил он ей и опять, нагнувшись, поцеловал ее. — А теперь усни, Наташа, отдохни. Дал бы Господь, чтобы ты не занемогла от холодной ночной воды.
— Я здорова, — сказала она. — А только устала уж очень.
— Спи же спокойно.
И Стрешнев вышел из ее комнаты, чувствуя, как в душе его подымается новое доброе и, как ему казалось, прочное чувство к жене.
Марья Даниловна стояла у дверей опочивальни, где происходил этот разговор, и слышала все от слова до слова.
Бешеная злоба душила ее, когда до ушей ее доносились слова Стрешнева, и страстное, непобедимое чувство мести подымалось в ее отравленной всем, уже перенесенным горем душе.
— А, — шептала она, до боли стискивая свои белые зубы, — вот ты как обо мне говоришь нынче! Добро! Увидим, так ли легко ты отделаешься от меня, Никита Тихоныч. Слаб уж ты больно перед бабьими речами, и ничего не стоит, видно, перевернуть тебя в любую сторону! Все равно, что стрелка на вышке твоего барского дома: куда ветер, туда и она. Ладно же, приди только ко мне, и ветер подует в другую сторону. Постою я за себя! Увидишь!
Она еле успела отойти от дверей и скрыться в свою комнату, не попадаясь на глаза Стрешневу.
Придя к себе, она села на табуретку и залилась слезами.
Слезы были редкой гостьей в обиходе ее жизни.
Ни лишения, ни невзгоды, ни нужда не вызывали их и, когда она плакала, то это было лишь от стыда, от оскорбленного самолюбия и от бессильной злобы.
Она встала, подошла к окну, глянула в сад, окутавшийся теперь плотным, почти непроницаемым покровом ночи, и ей вспомнилась во всей своей яркости безобразная сцена у озера, так неудавшееся покушение на жизнь Натальи Глебовны, приведшее к совершенно иному выходу, чем тот, на какой она рассчитывала.
Но что-то неопределенное и смутное бродило еще в ее усталой душе, нашептывало ей, что не все еще кончено, что надежда не вовсе потеряна и что настанут еще дни ее торжества.
Женить Стрешнева на себе и удалить со своей дороги Наталью Глебовну сделалось уже давнишней ее мечтой. Во все времена пребывания ее в доме Никиты Тихоновича она не переставала думать об этом, но так как бесхарактерный и слабовольный Стрешнев никогда сам бы не решился на это, то она и придумала взять его силой, испугать его перспективой окончательной разлуки с нею.
С этой именно целью она и рассказала ему свою жизнь, почти ничего не утаив из нее, чтобы воочию показать ему, что она пережила уже, несмотря на свои молодые годы, много невзгод и что ей ни по чем лишиться еще один лишний раз теплого угла и сытного куска. Иначе он мог бы, в глубине души, вообразить, что она должна ценить оказанное ей гостеприимство и выраженную ей любовь.
Бессердечная, злая и тонкая умом, Марья Даниловна с первых же дней жизни своей в обществе Стрешнева поняла и разгадала его несложный, мягкий и уступчивый характер. Она поняла, что препятствия, упорство, только могли разжечь его страсть к ней и заставить его во что бы то ни стало добиваться взаимности.
Мешала ей лишь одна Наталья Глебовна своей безответной покорностью, своим наружным равнодушием к увлечению ее мужа. Если бы она, в свою очередь, возмутилась духом и восстала против его измены, он, как упрямый человек, каковыми она считала всех, не обладавших твердой волей, непременно пошел бы наперекор, и Марья Даниловна скорее достигла бы своих целей. Но Наталья Глебовна ничего не предпринимала против них— и на Никиту Тихоновича нападало что-то вроде спокойного сна, и он стал добродушно воображать, что все так может идти и дальше.
Марья Даниловна вздрогнула…
За дверьми послышалось какое-то шуршание еле уловимое — и она в большой тревоге тотчас же подбежала к дверям.
— Кто там? — задыхающимся голосом спросила она, взявшись за ручку двери.
Послышался пискливый голосок:
— Я, королевна, я, благодетельница.
У Марьи Даниловны отлегло от сердца.
— Ты, Матришка? Входи же.
Карлица вошла и подобострастно поцеловала край ее платья.
Это было маленькое, безобразное существо со сморщенным старушечьим лицом, с провалившимися губами, с желтою кожею щек и вытянутой шеей. У нее был горб на спине и руки ее были длинны, как плети. Пальцы ее были отморожены и скрючены, а нос походил на раздавленную грушу. Невозможно было даже приблизительно определить ее возраст. Лицом и морщинами она была настоящая старуха, но в глубоких впадинах ярким и злобным пламенем горели ее все еще молодые и темные глаза.
Иногда блеск их был так силен и отличался такой остротой, что сама Марья Даниловна не выдерживала их взгляда и опускала перед ней свои взоры.
Карлица была обидчива, мелочна и злобна. Давно ее взяли в дом к Стрешневым, и она исполняла в нем должность шутихи.
Она не любила Натальи Глебовны на том же основании, как не любила ее и Марья Даниловна, именно за ее доброту.
Злая и испорченная натура карлицы не переносила людского совершенства и бессознательно озлоблялась против него.
Существенным пороком ее была вороватость, и, несмотря на совершенную бесцельность ее мелких покраж и жестокие кары, которые обрушивались на нее за это, она продолжала тянуть все, что плохо лежало в доме, неведомо зачем и для чего.