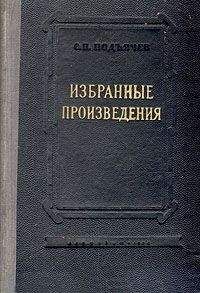На улицахъ было холодно и вѣтрено. Хорошо и тепло одѣтый городовой, не торопясь, шелъ по панели, а мнѣ велѣлъ идти около, по мостовой…
Попадавшіеся навстрѣчу люди глядѣли на меня, какъ мнѣ казалось, одни съ презрѣніемъ, другіе съ состраданіемъ. какая-то закутанная въ клѣтчатую шаль женщина, съ корзинкой въ рукѣ, вѣроятно кухарка, возвращавшаяся съ рынка, перекрестилась и торопливо сунула мнѣ въ руку пятакъ.
— Сколько? — спросилъ городовой, косясь на меня.
— Пятачокъ.
— Давай, куплю папиросъ «Голубку».
Онъ взялъ въ лавочкѣ папиросъ, далъ мнѣ одну, а остальныя положилъ за рукавъ шинели и сказалъ:
— Кури пока… Тамъ вашему брату курить не полагается…
— А остальныя? — спросилъ я.
— На кой онѣ тебѣ?!. Помалкивай, небось!…
Придя въ часть, мы вошли по лѣстницѣ въ комнату, гдѣ сидѣли и что-то писали двое: одинъ съ бородой, постарше, другой безъ бороды, помоложе.
Городовой передалъ имъ какую-то бумагу, объяснилъ, въ чемъ дѣло, и ушелъ…
Господинъ, помоложе, спросилъ мое имя, фамилію, званіе, откуда я родомъ, и послѣ этого, подойдя ко мнѣ, началъ съ необыкновенно серьезнымъ видомъ ощупывать и ошаривать меня со всѣхъ сторонъ, ища чего-то… Продѣлавъ это и не найдя ничего, онъ кликнулъ солдата.
— Отведи его! — сказалъ онъ, кивнувъ на меня, и, закуривъ папироску, добавилъ:- На родину захотѣлъ, гусь-то… по охотѣ… хи, хи, хи!… ну, что-жъ, пусть попробуетъ…
— Пожалуйте, господинъ, — ухмыляясь и шевеля, какъ котъ, шетинистыми подстриженными усами, сказалъ солдатъ и повелъ меня изъ этой комнаты въ помѣщеніе для арестантовъ, назначенныхъ къ пересылкѣ.
Поднявшись по лѣстницѣ на другой этажъ, солдатъ остановился на площадкѣ, около плотно запертой двери и позвонилъ. Застучали какіе-то засовы, дверь отворилась, и мы вошли въ узкій, высокій, страшно длинный полутемный корридоръ. Лѣвая сторона этого корридора представляла сплошную глухую стѣну… Въ другой стѣнѣ, на извѣстномъ разстояніи одна отъ другой, виднѣлись двери, съ маленькими оконцами-«глядѣлками» посрединѣ.
Двери эти то и дѣло отворялись, и изъ нихъ выходили и входили какіе-то странно одѣтые люди. Люди эти сновали и по корридору туда и сюда, точно одурѣвшіе бараны…
Мнѣ приказали идти въ камеру и быть тамъ, пока не потребуютъ. Я отворилъ первую дверь, вошелъ и остановился въ испугѣ, пораженный общимъ видомъ камеры.
Въ камерѣ трудно дышалось протухлымъ, необыкновенно тяжелымъ воздухомъ; отъ скользкаго, обшарканнаго ногами пола, заплеваннаго и загаженнаго, несло сыростью и какой-то кислятиной… Свѣтъ, проникавшій сквозь огромныя за чугунными рѣшетками окна, былъ похожъ на туманъ или дымъ. Вся обстановка и лица людей, благодаря этому свѣту, принимали какой-то сѣрый, печально-испуганный видъ…
Мѣстъ свободныхъ не было… Всюду: на деревянныхъ нарахъ, занимавшихъ средину камеры и шедшихъ вдоль стѣнъ, а также подъ нарами и въ проходахъ лежали, сидѣли, стояли и ходили люди…
Не смолкавшій ни на минуту общій гулъ и ревъ множества человѣческихъ голосовъ наполнялъ огромное помѣщеніе, нагоняя на душу безотчетный страхъ и щемящую тоску…
Думалось почему-то, что вотъ-вотъ все эти сѣрыя стѣны, и окна, и люди, провалятся и полетятъ куда-то въ преисподнюю…
Постоявъ около двери и нѣсколько освоившись съ общимъ видомъ камеры, я сталъ искать глазами мѣстечка, гдѣ бы приткнуться, посидѣть… Мѣстечко отыскалось тутъ же, неподалеку отъ двери, около огромной печи, на полу… Я пробрался туда и потихоньку сѣлъ, боясь, какъ бы не зацѣпить и не разбудить лежавшаго на полу навзничь и тяжело храпѣвшаго высокаго, сѣдобородаго, косматаго человѣка, съ огромнымъ распухшимъ носомъ. Онъ храпѣлъ, вздрагивалъ всѣмъ тѣломъ и бормоталъ во снѣ ругательства.
Я сѣлъ около него, прислонился спиной къ стѣнѣ и сталъ смотрѣть и слушать…
Люди, молодые и старые, симпатичные и наглые, грязно и бѣдно одѣтые, безъ всякаго дѣла, ругаясь и крича, бродили по камерѣ, какъ мухи лѣтнимъ днемъ бродятъ цѣлой тучей по столу въ душной и старой крестьянской избѣ…
Входная дверь отворялась и хлопала безпрестанно… Около этой двери на полу стояла не подтертая еще зловонная лужа. Лужа эта образовалась, очевидно, изъ переполненной за ночь «парашки».
Какой-то молодой малый, худой, какъ скелетъ, въ клѣтчатыхъ набойчатыхъ порткахъ и въ ситцевой «бѣлорозовой» рубашкѣ, безъ пояса, съ разстегнутымъ воротомъ, босой, съ грязными, точно въ чернилахъ, подошвами ногъ, лежалъ лицомъ кверху, около самой лужи, раскинувъ по сторонамъ руки, и крѣпко спалъ, широко открывъ ротъ… Рядомъ съ нимъ сидѣлъ, скорчившись, тоже совсѣмъ еще молодой парень въ деревенской поддевкѣ и въ валенкахъ и плакалъ, утираясь рукавомъ поддевки.
Я долго глядѣлъ на этого парня, и мнѣ стало жаль его.
«О чемъ онъ думаетъ? О чемъ плачетъ»?..
Мнѣ хотѣлось поговорить съ нимъ и не хотѣлось вставать изъ боязни потерять мѣсто. Но вотъ онъ пересталъ плакать, поднялся, почесалъ обѣими руками голову и взглянулъ на меня. Я воспользовался этимъ и поманилъ его рукой. Онъ робко, неуклюже, какъ медвѣдь, шлепая сырыми подошвами подшитыхъ валенокъ, подошелъ ко мнѣ и остановился, моргая опухшими красными глазами.
— Присядь, землячекъ, — сказалъ я, потѣснившись въ сторону.
— А тебѣ что? — спросилъ онъ и присѣлъ передо мной на корточки.
— О чемъ это ты ревѣлъ? — спросилъ я.
Онъ засопѣлъ носомъ и еще шибче заморгалъ глазами.
— Заревешь здѣсь, — началъ онъ хриплымъ голосомъ, — обокрали меня!..
— Какъ такъ?..
— Какъ?.. Очень просто! Вотъ была здѣсь у меня въ полѣ трешница зашита… уснулъ ночью… проснулся — нѣтъ!… вырѣзали ножомъ… точно корова языкомъ слизнула…
— Не слыхалъ?..
— Гдѣ слышать!… жулье тутатко… ловкачи!..
— А ты какъ же попалъ сюда?..
— Сдуру и попалъ… Прямо отъ своей глупости… Научили меня… Я, видишь-ли, добрый человѣкъ, пятый мѣсяцъ въ Питерѣ болтаюсь безъ дѣла. Прожился, проѣлъ все… А тутъ, хвать, изъ дому письмо пришло: пріѣзжать велятъ немедля… Братья, вишь ты, дѣлиться тамотка задумали… Я туды… я сюды… какъ быть?.. А мнѣ не близкой свѣтъ домой-то… въ Орловскую губерню… не мутовку облизать уѣхать-то туда… Ну, и посовѣтовалъ мнѣ одинъ человѣчекъ на этапъ попроситься… «Доставятъ, баитъ, за милую душу»… Ну, я съ дуру-то и послушай… Трешницу-то мнѣ землякъ далъ. Я ее и зашилъ въ полу, думалъ: годится дома… Анъ вотъ те годится!… Шестыя сутки здѣсь вотъ, какъ въ котлѣ киплю… Не приведи Богъ здѣсь и быть-то!..
— Плохо?
— Сибирь!… Нашего брата замѣстъ собакъ почитаютъ… Узнаешь самъ: каторга, сичасъ издохнуть…
— Да что-жъ тебя такъ долго не отправляютъ?
— А песъ ихъ знаетъ!… Партію, вишь ты, подгоняютъ, канплектъ… Отседова, баютъ, въ тюрьму еще погонятъ… Тамотка, гляди, просидишь денъ пять, а то болѣ… пока этапъ наберутъ на Москву.
«Ну, ну, — подумалъ я, слушая его, — дѣло-то плохо»!
— А вѣдь я тоже, землякъ, не плоше тебя по вольному этапу иду, — сказалъ я ему.
— Дуракъ, значитъ, и ты вышелъ! — сказалъ онъ и, помолчавъ, продолжалъ: — Вѣришь Богу, измаялся я здѣсь… обовшивѣлъ… Въ тюрьму бы ужъ, что-ли, скорѣй гнали… Тамотка, баютъ, много лучше здѣшняго… Здѣсь ни поѣсть, ни уснуть… Собака, сичасъ провалиться, и та сытѣй!… Дадутъ тебѣ пайку хлѣба съ фунтъ, хоть гляди на нее, хоть ѣшь, какъ хошь… Похлебки принесутъ — собака сбѣсится… Да и той, коли успѣлъ ложки три хлебнуть — говори слава Богу… Такъ-то плохо и не приведи, Царица Небесная!..
Онъ хотѣлъ разсказать еще что-то, но не успѣлъ, потому что въ это время проснулся лежавшій на полу рядомъ со мною человѣкъ… Проснувшись, онъ уставился на меня огромными съ кровяными бѣлками глазищами и зарычалъ какимъ-то сдавленно-сиплымъ басомъ:
— Ты откуда взялся, а?.. Какого ты чорта развалился здѣсь, какъ дома на печкѣ?.. Мѣсто-то твое, что-ли?.. Здѣсь, братъ, давнымъ давно занято… Убирайся-ка, братъ, къ… пока цѣлъ!..
— А ты купилъ его, что-ли? — спросилъ я.
— Купилъ… стало быть, купилъ!… Поговори еще, сѣрый чортъ…
Парень въ поддевкѣ поднялся и, дернувъ меня за рукавъ, сказалъ:
— Пойдемъ, землякъ, курнемъ… Не связывайся!..
Я поднялся и пошелъ за нимъ. Онъ вышелъ въ корридоръ и, пройдя его весь, свернулъ влѣво и отворилъ дверь въ отхожее мѣсто.
Смрадная, вонючая комната была переполнена. Въ углу топилась печка… Къ этой печкѣ то и дѣло подскакивали люди закурить… Курили не всѣ… курили счастливцы… большинство, съ какой-то особенной жадностью, ожидало, когда курящіе кинутъ обмусленный окурокъ на вонючій полъ, чтобы броситься къ нему, схватить и жадно, обжигая губы, затянуться разъ-другой…
Табакъ здѣсь, какъ я потомъ узналъ, цѣнился страшно дорого, потому что курить запрещалось и пронести его съ воли было трудно. Мой парень пронесъ его, какъ оказалось, подъ тульей своей деревенской шапки и берегъ, какъ святыню.