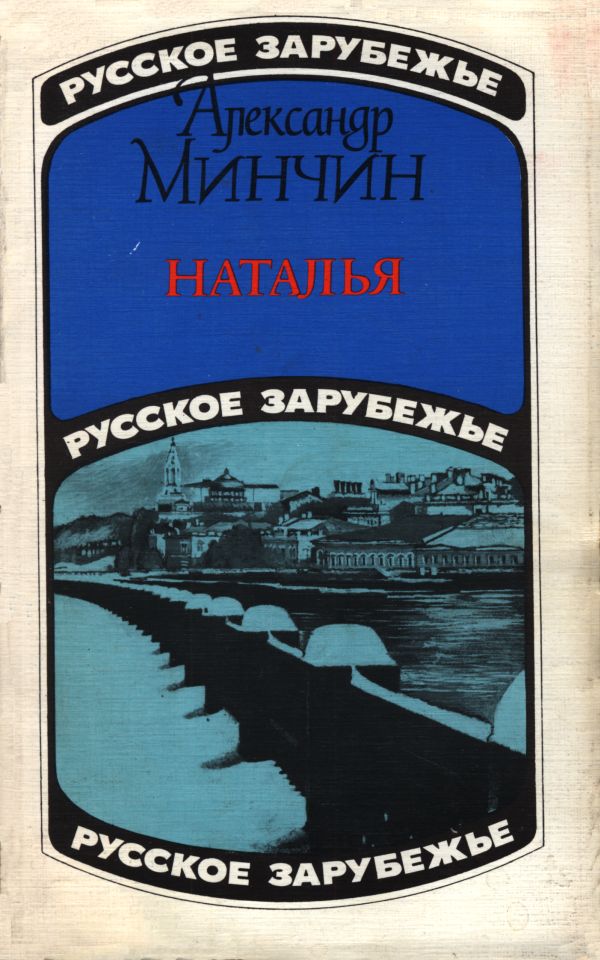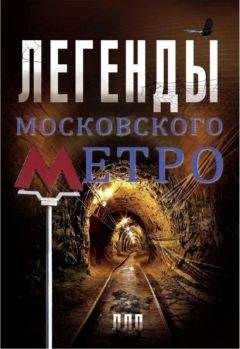дурацкая программа, которую там проходят. Она мне не интересна. Я не хочу гробить свою жизнь педагогом.
— Хорошо, что ты хочешь? Поступай снова, я тебе помогу…
— Я не знаю, куда. Но там я не буду учиться. Мне надоела уже эта постоянная нехватка денег, зависимость от тебя. Я даже не могу в кино ее сводить, иногда.
— Она уже взрослая, может платить за себя. Ничего в этом страшного нет. Ты студент, и деньги у тебя не растут, на ветке.
— Ладно, папа, это никчемный разговор: ты знаешь, что я так не буду делать никогда. Я не Боря.
— Так что тебе надо? Она — это не учеба. А мне надо, чтобы ты учился, выбросив из головы галиматью. Я хочу сделать человека из тебя!
— Это не галиматья, — меня начинало трясти. — Я не могу без нее, она мне нужна. — Я стал быстро ходить по номеру: — Нужна, понимаешь. Я не могу дня без нее, ее лица, — она необыкновенная. И я ничего не могу поделать, я не могу ее забрать, я должен каждый раз с ней прощаться, — я во всем завишу от тебя, и от этих несчастных денег, которых ни на что не хватает. Будь это все проклято.
Я подскочил к окну и уцепился за подоконник. Я чувствовал, что сейчас начнется.
— Жизнь-то у меня одна, и она проходит. А по-твоему, я должен ее тратить на дегенеративные учения, — меня трясло. Как дрожь.
— Учения — не дегенеративные.
Но я уже не слышал его, меня колотило, и вдруг это началось, слезы хлынули и потекли по моему лицу. Я плакал, как девятилетний, и не мог остановиться, мои плечи тряслись, я пытался что-то говорить, мне было стыдно, что отец видит, что это я и что со мной.
— Что ты плачешь? — спросил он.
— Я не хочу так жить. Я хочу работать и чтобы она была со мной.
— Ты все равно не сможешь сначала зарабатывать столько, чтобы ей было достаточно, чтобы содержать ее.
— Ей ничего не надо, ты не так понимаешь. Это все глубже…
Я плакал и не мог остановиться, слезы текли безостановочно. А я все что-то говорил, всхлипывая, вздрагивая, — все наболевшее, важное, передуманное много раз.
А он все слушал, казалось, не слушая меня.
Я начал успокаиваться потихоньку. Такой истерики со мной никогда не было. Я не знал, что такое бывает после детства. (Когда детство окончилось…)
Я все стоял у подоконника. Мне было стыдно повернуть лицо к нему. Оно было заплакано.
— Да, Саня, обрадовал ты меня… — он успокоился.
— Прости, папа.
Я боком вышел в ванну и стал мыть лицо, глядя в зеркало. Совсем как женщина.
Глаза мылись холодной водой, но оставались заплаканными. Когда я вернулся в комнату, отец был совсем спокоен.
— Идем есть, — сказал он. — В любом случае — хороший ты сын или плохой, но кормить тебя надо. — И добавил: — К сожалению…
Мы вышли вместе.
Домой я вернулся в полночь. Пообещав перед этим отцу, что хотя бы для него похожу в институт, пока не решу окончательно, кем быть и что мне делать.
От метро до дома я дошел очень быстро.
Под дверью, где обитал мой брат, горел свет. Я постучал.
— А, Санчик, это ты. Заходи. Что это в пакете?
— Бутерброд с мясом для тебя. Отец передал, мы были в ресторане.
— Это очень прекрасно, — он тут же вытащил его, освободил от салфеток и больно укусил.
— Ты чего так поздно не спишь?
— Лине письмо обещал написать, вот, пишу.
— Б., свет тронулся, если ты уже письма пишешь.
Он ухмыльнулся и проглотил пережеванное. Потом внимательно посмотрел на меня.
— Что это у тебя с лицом. Плакал, что ли?
— Да нет, что ты.
— A-а, а то я подумал… Что отец тебе говорил насчет института, не бил?
— Нет. Ты знаешь, что он там был?
— Конечно, я его возил.
— Как?
— Он позвонил мне в три, сказал, чтоб я взял «скорую помощь» и поехал с ним в твой институт. Ну, ты ж отца знаешь. Пришлось приехать за ним и…
— А ты тоже молодец, не мог остановить или заморочить голову ему там.
— Я и так старался делать все, что мог. Поначалу все шло нормально. В деканате даже не знали о тебе почти ничего. Ему посоветовали найти твою старосту, Марина, что ли, ее зовут. Он дождался перемены, нашел ее, и она, моргая своими большими ресницами, выложила ему все от и до. Сказав, что за три месяца вообще видела тебя два раза. Ну, если отца тогда удар не хватил, он его никогда не хватит. Я его потом в машине постарался успокоить, как-то смягчить, но тут он и меня клял, и тебя. Мне влетело, что я большой, а у тебя на поводу, и вообще грозился прибить младенца. — (Они меня между собой младенцем звали.) — Что он тебе сказал?
— Ничего особенного.
— Как ничего? Не бил, точно?
— Нет, даже не знаю почему. Я ему сказал, что не хочу учиться, не хочу быть в этом институте.
— Да ты что?! А что он сказал?
— Ничего. Так все и осталось под вопросом. Это ты ему сказал, что у Натальи ребенок?
— Да, а что, это большой секрет? Я не знал.
— Я просто спрашиваю, или уже нельзя спросить тебя?
— Отчего же, — он улыбнулся, — можно.
И откусил громадный кусок бутерброда: мясо среди хлеба.
— Борь, на ночь кушать вредно.
Он остановил движение рта.
— Ты что, принес, чтобы я его не ел, да?
Я рассмеялся.
— Ладно, спокойной ночи. Лине привет от меня.
— Угу, — рот его опять жевал.
Я лег в постель, свернулся клубочком и уснул, пьяный от ее запаха.
Он остался со мною и не уходил никуда.
— Доброе утро, Наталья.
— Доброе, Санечка. Ровно девять часов утра.
— Точность — моя отличительная черта.
— Да?
— А ты не заметила?
— Нет, я тебя по-другому отличаю.
— Как?
— Неудобно по телефону…
— А-а, — я улыбнулся.
— Санечка… я не смогу увидеть тебя сегодня. Я приеду сама, ты не жди меня…
Это было как-то неожиданно, я молчал.
— Саня, ну не обижайся на меня. Почему ты каждый раз обижаешься. Я же сама хочу увидеть тебя, я не виновата. Ну, Саня…
— Хорошо, Наталья. Я буду ждать тебя.
— Только не жди, пожалуйста, я сама приеду.
— Договорились, я буду ж… то есть я не буду ждать тебя.
— Спасибо. Саня, я тебе вчера в такси опустила рубль металлический. Я знала, что ты больше не возьмешь, но ведь без денег же совсем