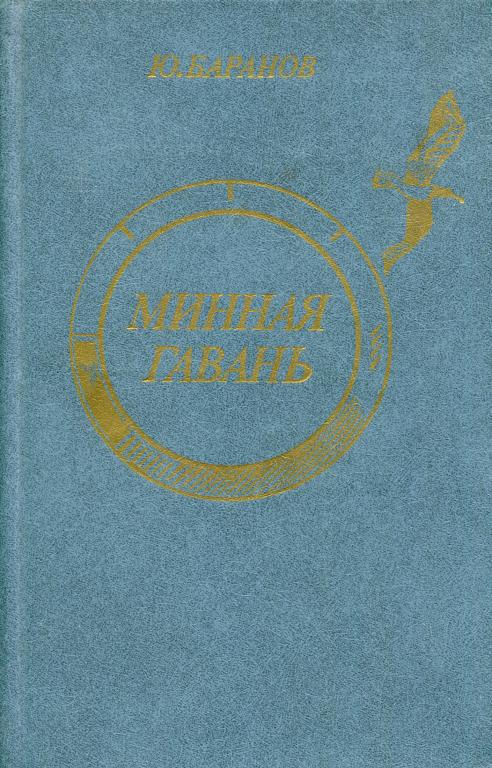по пыльному проселку на полной скорости. Мелькали знакомые перелески, неглубокие овражки, поля. Три года не был Семен дома и теперь налюбоваться не мог родной сторонкой. С волнением и грустью узнавал он места, где прошло все его детство.
Перед самой околицей Семен попросил, чтобы его высадили. Особая прелесть была в том, чтобы не торопясь пройтись по деревне. Близился вечер, но жара еще не спала. Семен снял тужурку, расслабил галстук и расстегнул ворот кремовой рубашки. Нестерпимо хотелось скинуть ботинки и, как в былые годы, шагать босиком по утоптанной тропинке, что вела мимо палисадников.
Пугачев обогнул косогор, на котором возвышалась облупившаяся церковка со ржавым амбарным замком на железных дверях. Сразу же за косогором открывался пруд, по берегам которого тесным рядком стояли, будто обнявшись, древние ветлы. А там, за деревьями, родной дом, старая бревенчатая пятистенка. Крытая почерневшей дранкой крыша. Через плетень перекинут половичок, на кольях — две махотки, словно чьи-то смешные сказочные головы, выставленные напоказ.
Семен шагал размашисто, волнуясь и радуясь предстоящей встрече с матерью. Он увидал ее в окне. И не выдержал — побежал к крыльцу… Мать охнула, заспешила навстречу, громыхнув где-то в сенцах пустым ведром. Вот она показалась в дверях. Маленькая, в платочке, в ситцевом фартучке. Протянула дрожащие руки. Они обнялись, расцеловались. Семен смеялся, мать со слезами на глазах улыбалась.
— Заходи, родимый, заходи, — приглашала она.
И Семен шагнул через порог. Пахну́ло ни с чем не сравнимым запахом родного жилья. Все простенько, все как в далеком детстве: побеленная русская печь, вдоль окошек — широкая лавка, чисто выскобленный стол. В правом углу божья матерь со святыми угодниками греются у крохотного лампадного огонька.
— Сынок, дак чего ж ты один? — спросила мать. — А где же Иринушка?
— Понимаешь, у сестры осталась погостить. Они десять лет не виделись.
— Ой, чо ж так-то? — удивилась мать. — Ну и ладно, и слава богу, что сестрицы свиделись. А ты бы внучка привез. Поглядеть бы на него разочек. А то ведь помру, так и не увижу.
— Ну что ты такое говоришь? — Семен нежно обхватил руками ее плечи. — Ты у меня еще крепкая, сто лет живи.
Она горестно покачала головой:
— Не така уж я шустрая теперь, какой помнишь меня. Поясницу вот к дождю или снегу так и ломит. Поизносилась…
— Звал же тебя: приезжай, живи у меня. Неужели бы тебе плохо было?
— На том спасибо, милой сын, — старушка поклонилась. — Да ведь на кого кинуть дом, хозяйство?.. Иван с Колькой вон через улицу наискосок от меня живут. Снохи привечают, слова дурного от них не слыхала. Опять же внучатки: пятеро их у меня, твой Кирюшка шестой будет.
— Вот видишь, какая ты богатая! Тебе жить да жить.
— Так все одно не переживешь больше того, что на роду написано… Я вот все думаю: посмотрел бы теперича дед на внучаток своих родненьких. Царствие ему небесное. — И она перекрестилась, глядя на фотографию мужа, висевшую в простенке между окнами.
Семен его не помнил. Слишком был тогда мал, когда отец, простившись с ними, уходил на фронт…
На дворе послышались ребячьи голоса, в сенцах затопали босыми ножками, но перед дверью все стихло. Видимо, никто не решался войти первым.
— Племянники твои пожаловали, — сказала мать и громко позвала: — Чо у дверей-то гоношитесь? Входите.
Дверь приоткрылась, и в образовавшуюся щель друг за другом просунулись три мальчугана. Они остановились у порога, смущенно переминаясь с ноги на ногу и выжидающе глядя на своего дядьку.
Подмигнув им, Семен открыл чемодан и принялся извлекать подарки: кому тельняшку, кому флотский ремень, кому коробку конфет.
Следом пришли со своими женами и Семеновы братья: старший — Иван и средний — Николай. Как и полагается, троекратно расцеловались.
Выйдя на крыльцо, мужчины закурили. А в доме тем временем загремела посуда, зашипели сковородки, запахло вареным и жареным. Мать уже командовала снохами, которые помогали ей готовить.
Вскоре начала собираться и прочая многочисленная родня. Явился дядя Афанасий, надевший по случаю приезда племянника старенькую гимнастерку с медалью «За отвагу». Победно громыхая деревянной ногой, он подковылял к Семену, молодецки расправил отвислые прокуренные усы и подставил щеку для поцелуя. Он тотчас вмешался в разговор между братьями и всех склонил к политической теме, в которой считал себя знатоком.
— Вот ты, Семен, видный человек, офицер, — говорил дядя Афанасий, когда все уже входили в дом, ожидая от хозяйки приглашение к столу. — Ответь мне, как старому гвардии солдату, на такой вопрос. Ну что это супротив нашего пребывания на дальних морях на Западе голос поднимают? Какие такие особые права у них на это имеются?
— Силу нашу почувствовали, дядя Афоня, вот и шумят.
— А вы что же? — строго спросил старик.
— А мы дело знаем. Ходим своим курсом, где прикажут.
— Вона, плаваете, значит. Это хорошо. А к примеру, далеко ли ты, Семка, бывал-хаживал?
— По-всякому случалось: ходил и далеко, и близко…
— Ну да, понимаю. Об этом с бухты-барахты говорить не полагается. А каким же кораблем, если не секрет, командуешь теперь?
— Не секрет, — отвечал Семен. — Пока тральщиком. А доведется в скором времени командовать большим противолодочным кораблем.
— Так-так. Большому кораблю, как говорят, большое плавание. И в далекие страны будешь ходить?
— Это уж как водится.
— Вот те на-а, пеньки дубовые. — Дядя Афанасий торжествующе поднял палец и обвел взглядом всю родню. — А ведь он, Семка-то, нашего пугачевского роду-племени. Дед его, Ерофей Кузьмич, сиволапым мужиком был, горе на поденках мыкал. А внук в больших чинах, можно сказать, государственной важности человек.
— Будет тебе, старый, — урезонивала мать своего брата, — дай людям роздых. — Поклонившись, она сказала с простым крестьянским радушием: — Милости просим, гости дорогие, на хлеб-соль нашу.
Народу собралось человек двадцать. За столом было шумно и празднично. Разговаривали обо всем, что представлялось важным: о сенокосе, о дождях и ветрах, о новом председательском газике и о