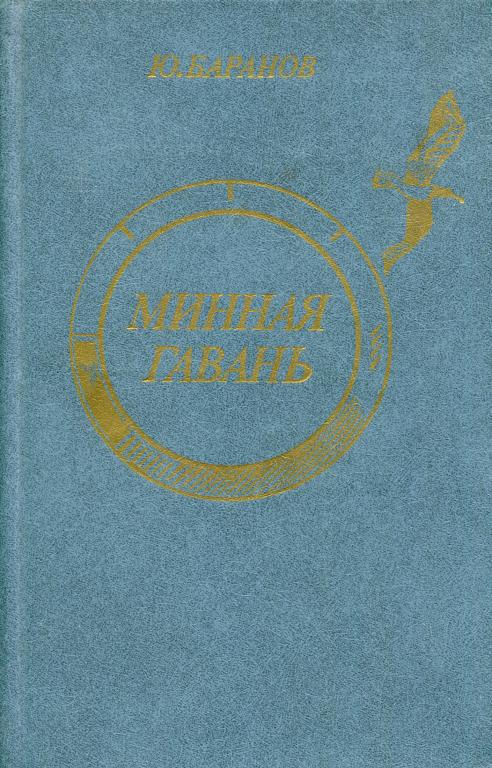соседском телке, которого на прошлой неделе в малиннике задрал медведь. После очередной рюмки дядя Афанасий запел свою любимую: «Хаз Булат удалой, бедна сакля твоя…» Братья сильными голосами поддержали своего дядьку.
Мать не сводила с Семена полных ласки и нежности глаз. С озабоченным видом подкладывала ему в тарелку малосольные огурчики, рассыпчатую картошку, кусочки душистой баранины. И все твердила:
— Кушай, сынок, кушай.
А веселье было в самом разгаре. Старший брат Иван играл на баяне, женщины с визгом отплясывали. Сильно захмелевший дядя Афанасий сидел в обнимку с Николаем и что-то растолковывал ему, то и дело жестикулируя. Махорочный дым, колыхаясь, висел над потолком сплошной пеленой.
Семен почувствовал, как хмель и ему ударил в голову. Он встал и вышел на крыльцо.
Тихие сумерки плыли над селом. В сенцах пели сверчки. Закурив, Семен спустился с пригорка. На берегу пруда он сел на поваленный ствол дерева. Пахло сыростью и водорослями. Дуплистые, в два обхвата ветлы наклонились к воде, едва не касаясь ее серебристыми ветвями. Под ними тесной кучкой проплывали утки. Сердито крякая, они двигались чинно и медленно, будто начальство на инспекторской поверке. Тени и запахи сгущались. Луна взошла на полнеба. Она ярко светила и напоминала Семену не задраенный на ночь корабельный иллюминатор.
Потягивая дымок сигареты, он любовался тихой, спокойной гладью воды. Трудно было вообразить, что где-то есть иная, неспокойная вода, необузданную силу которой столько раз приходилось ему испытывать на себе. Милый пруд, это маленькое море детства… Отсюда началось его долгое плавание… Омрачала лишь мысль, что завтра он должен уже уезжать, так и не наглядевшись вдосталь на родные места, не наговорившись с матерью.
«Вот всегда так, — досадовал Семен, — все в спешке, все некогда! Видать, обидится, старая, что якоря недолго держат меня у родного крыльца: тянет море, зовет… Только вот все равно невозможно, чтобы хоть на денек, хотя бы на минутку не заглянуть сюда. — И выплеснулось негромко, будто из неведомых тайников души: — Эх, родная ты моя! Да что стоил бы твой блудный сын без хатенки нашей, без этих самых ветел-старух. Гляну лишь глазком на них, и тогда любые штормы стерплю. Это все во мне, я всегда душой и мыслями здесь…»
10
Свой тральщик Пугачев сдавал Захару Ледорубову. К великой радости Семена, его друг был утвержден в должности командира корабля. Лучшего преемника Семен и не желал.
Настал день, когда весь экипаж тральщика выстроился на юте по большому сбору. Моряки стояли в строю настороженно притихшие, переговаривались шепотом, словно опасаясь ненароком спугнуть торжественность близившейся минуты прощания со своим бывшим командиром.
Завалихин, ощущавший на своих плечах приятную «тяжесть» недавно приколотой третьей звездочки, неторопливо, как и подобает будущему помощнику командира корабля, расхаживал перед шеренгами моряков. Было слышно, как всхлипывала у бортов вода, нежно поскрипывал корабельный трап и тоскливо жаловались друг другу чайки.
По левому борту, где-то за надстройкой, по палубе раздались шаги.
— Равня-айсь! Смирно! — в ту же секунду подал команду Завалихин и четко зашагал навстречу приближавшимся командирам.
Вскинув руку к козырьку, Пугачев и Ледорубов выслушали рапорт. Потом Семен поздоровался с моряками.
Строй ответил ему на одном дыхании, дружно. Казалось, дрогнула под ногами палуба и зарябила в гавани вода…
Семен Пугачев вышел на середину строя, обвел свою команду взглядом, как бы здороваясь с каждым моряком лично. Грустно улыбнулся.
— Вот и расстаемся, — начал он. — Гляжу я на вас, и до чего же мне уходить отсюда не хочется. Сколько миль вместе пройдено, и где мы только не побывали… Да будь моя воля, всех бы забрал с собой на новый корабль. Но… — как бы извиняясь, Пугачев глянул на Ледорубова, — кому-то и здесь надо служить. Сердечно рад, что командир ваш новый именно тот человек, достойнее которого я бы и не пожелал вам. Да вы и сами это знаете не хуже меня. И хотелось бы вот еще что сказать… — На мгновение Пугачев задумался, как бы подбирая наиболее задушевные слова. — Всю прошлую ночь я глаз не мог сомкнуть. Лежал и думал. Пытался представить себе смысл такого понятия, как корабельная палуба… Вот ходим мы по ней каждый день, швабрим ее, подновляем суриком. А в море ее то волной хлещет, то солнцем жжет, то льдом покрывает. Гуляют по ней вольные ветры, как по всей нашей необъятной родной земле… Как бы далеко и надолго ни уходили мы в море, эта земля родная незримо притягивает к себе частицу свою малую — нашу корабельную палубу. Для нас она вроде как Родина в миниатюре, огражденная государственными границами корабельных бортов. И нет в море нам опоры под ногами надежнее этой. В разное время все мы сойдем с корабля, разбредемся по разным городам и весям. Но едва ли кто из нас сможет забыть этот кусочек Родины и вот этот святой для нас флаг на корме, с которым, уходя, мы станем прощаться.
Семен выпрямился, отдал честь перед строем. Потом подошел к кормовому флагу и, сняв фуражку, поцеловал шершавое, потрепанное ветром полотнище. Уже ни на кого не глядя, ступил на трап и быстро сбежал по нему на берег.
Строй десятками добрых глаз устремился вслед своему бывшему командиру, пока тот не скрылся за дверями контрольно-пропускного пункта.
Выйдя за пределы Минной гавани, Пугачев по привычке глянул на прибрежный валун и увидел Кирюшку, сидевшего на своем излюбленном месте. Прицеливаясь, Кирюшка бросал камешками по дощечке, которая считалась вражеским крейсером и который он должен был непременно потопить.
— Кирилл Семенович! — позвал Пугачев. — Зачехляй орудия, пошли домой.
Поджидая сына, он полез в карман за сигаретами. Кирюшка подбежал и вцепился в отцовскую руку.
— Как дела, адмирал? — поинтересовался Семен. — Выиграл этот бой?
— Потопил всю эскадру, — гордо отвечал сынишка.
— Добро! Тогда освобождайся от лишнего боезапаса, — и принялся вытряхивать из его карманов мелкие камешки.
— Пап, давай не по шоссе пойдем, а по берегу, — предложил Кирюшка.
И хотя