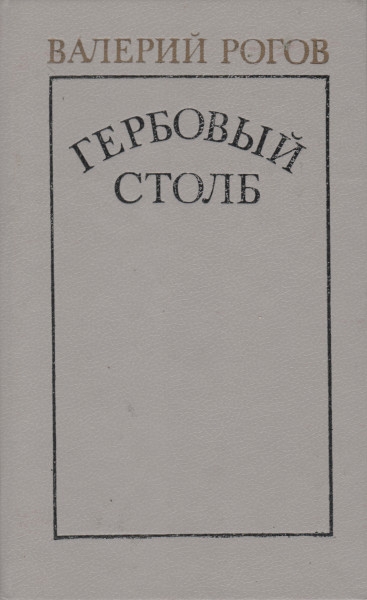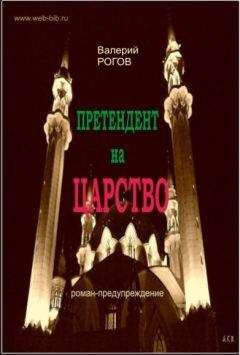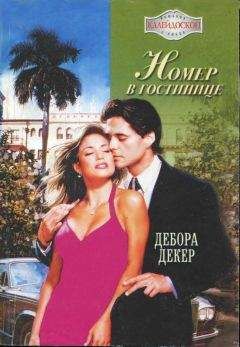Рубить надо, Митя! Правильно я говорю?
Дверь гаража резко распахнулась. В проеме радостно сияли невинные серые глаза Прибыткина.
— Привет честной компании! А третьего не хватает, трифена мать!
— Ты, как всегда, вовремя, — мрачно буркнул Глыбин. — Сходи в магазин.
— Это мы в один миг, Юра, — обрадовался Прибыткин.
Кто-то стучал. Дверь приоткрылась, и просунулась голова Бутылочницы с затравленным исподлобья взглядом.
— Юра, дай бутылочку бабке-то, — скрипуче потребовала она.
Она была уже вся в дверях — худая, сгорбленная, в немыслимой бархатной шубе с лисьим воротником. Болтали по двору, выторговала у бывшей нэпманши перед ее смертью. Ее кирпичный сарай — мощный, как дом, — стоял сбоку гаражей, высокомерный и холеный. В нем хранились ящики с бутылками и кипы старья. Сколько помнили во дворе Бутылочницу, она никогда не работала.
— На стадионы-то, бабка, ходишь? — спросил Глыбин, оживляясь.
— Хожу, Юра, хожу. Но теперь плохо стало: билет надо покупать.
— Ну ты-то не разоришься, — презрительно сказал Митя Кузовков. — Мильон-то уже, наверно, скопила? Что ты все лазишь вокруг, мешаешь людям? — раздражаясь, с отвращением говорил Митя. А Глыбин смягчил:
— Ты лучше, бабка, скажи, кто чемпионом будет?
— «Спартак», Юра, «Спартак».
— А я за «Динамо» болею.
— За «Спартак», Юра. Всегда за «Спартак» болел. Весь двор за «Спартак» болеет, только завистник Журкин за «Локомотив». Потому «Локомотив» все и выгоняют из высшей лиги.
— Смотри, все знает, — засмеялся Глыбин. — На тебе, бабка, бутылки. — И отдал ей четыре штуки, скопившиеся за последнее время.
— Бог тебе в помощь, Юра. — И, выйдя за дверь, зло Кузовкову: — У‑у‑у, ирод! Чужие деньги считает! — И вдруг пискляво завизжала: — Гусенка жена бьет! Гусенка жена бьет! — И вприпрыжку, боком побежала в темноту.
Митя смутился, покраснел.
— Она что, сумасшедшая? — удивленно спросил Глыбин, помогая Мите преодолеть неловкость.
— А ты что, не знал? — обрадовался подмоге Митя. — Какой нормальный человек имеет сейчас деньги и не тратит их?! А эта ведьма кладет в бутылки деньги и закапывает в своем сарае.
— Не может быть!
— Ну что я, врать буду?! Я раз ночью заехал домой перекусить. Смотрю, у гаражей возня. Ну я на машине без мотора — а тут ведь под горку — подкатил и как дам дальний свет! И что же? Вижу, в сарае дверь открыта, на электричестве-то она экономит, а тут отсвет от фонаря у мастерских, Бутылочница и старик старьевщик с Тупиковой улицы испуганно стоят с лопатами, а перед ними ямка вырыта. Ну, я включил мотор, развернулся и уехал. Мне-то что до них?
— Интересно, — промычал Глыбин.
— А ты бы видел, как тут милиция выселяла эту ведьму из подвала, — смеху было! Весь двор сбежался. А она — ни в какую! Забаррикадировала дверь, а сама из форточки, как из клетки, поливает милицию. Не захотела подниматься на этаж выше — и все тебе! Так и осталась в подвале!
— Что у нее, и там подполье есть?
— Наверно.
— А во дворе кто-нибудь об этом знает?
— Я молчу. А то Прибитый узнает и сдуру залезет. Срок дадут, суду-то какая разница, у кого украл. Вор есть вор.
Прибежал сияющий Прибыткин с бутылкой водки. Налили сначала ему. Пил — что сладкую водицу тянул. Стакан мелко стучал о зубы. Заячьи глаза заблестели, дурманом стало затягивать.
— Что меня все Николаем Герасимовичем пугают? Возьму и уйду! Что я, не рабочий человек?! Во, смотри какие руки! — кричал Прибыткин.
— Ты люмпен, — сказал Глыбин.
— Чего? — И, не останавливаясь, продолжал: — Я Николаю Герасимовичу больше нужен. Тоже мне начальник! Присосался к мастерским. Сделает он меня безработным?! На-кась выкуси, трифена мать!
Он махал руками, брызгал слюной, а глаза — остановившиеся, невидящие, в тумане. Он просто выкрикивал, что у него на душе наболело, не думая, слушают ли его. Он специально «нажрался» водки, чтобы было все нипочем, все можно — орать, оскорблять, драться, никого не стесняясь, ни о чем не задумываясь. Потому что завтра все равно ничего не вспомнится. А если не вспомнится, то и стыдом, совестью мучаться не придется.
И Митя захмелел. Он высказывал Глыбину с обидой:
— Что ты, Юра, мне душу сегодня тянул про смысл жизни? Ну не знаю я, не знаю. Я танк могу разобрать...
— А собрать? — В голосе Глыбина мрачная насмешка.
— Я соберу, Юра, танк, честное слово, по частям. А домой приду, жена драться лезет: «Опять, скотина, нажрался»... Я ее, Юра, большую взял, сам-то видишь какой... чтобы кузовковскую породу улучшить. Она у меня гренадер и дерется, стерва. Зато пацан у меня — крепкий такой, крупный, в нее пошел. А я на моторе гоняю, чуть ли не ежедневно, будем квартиру покупать! Наш Семен, инженер в таксомоторном парке, говорит: «Тебя, Кузовков, надо в механики переводить». Я-то сам с машиной вожусь, этим бездельникам разве доверишь? — кивнул он на Прибыткина. — Сам-то, как о родной, про машину-то думаешь. Знаешь, что она любит и где что поправить. Правильно я говорю?
В гараж постучали. Заглянула Надежда Прибыткина:
— Ну он здесь! Гони ты, Юра, этих пьяниц!
— Чего пришла? — обозлился Прибыткин.
— Я пойду, — скромно сказал Митя.
Глыбин вышел с ним на воздух. Дул сырой ветер. Тревожно шумели еще крепкой зеленой кроной липы. Ярко светила полновесная холодная луна. По чистому небу быстро бежали серые обрывки туч. Холодило.
— Ну иди, Митя, — сказал Глыбин и обнял его за плечи. — Спасибо тебе.
— Да что ты, Юра. Не за что. Пока, — вздохнул Кузовков, видно подумав о встрече с женой.
В гараже Надежда Прибыткина громко честила своего пьяного муженька, а тот тупо, матерной фразой огрызался. Когда Глыбин вошел, Надежда тут же оборвала ругань, улыбнулась, преобразилась, и Глыбин с удивлением ощутил присутствие женщины — в нем поднималось волнение. А Ленька продолжал бурчать ругательства. Но он для этих двух уже не существовал.
Она была среднего роста, с добрым полным лицом. Глыбин знал,