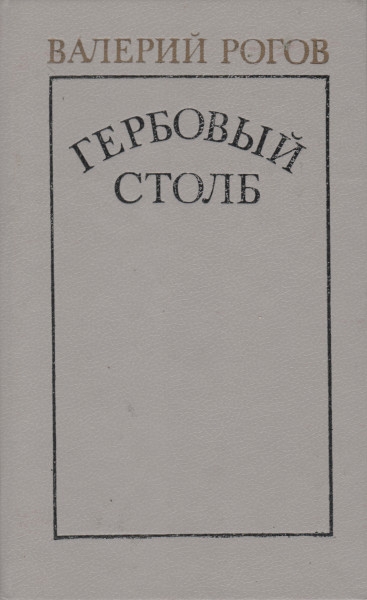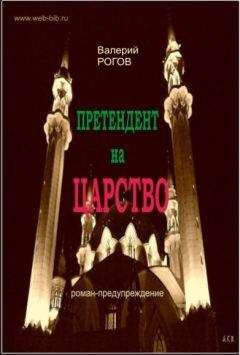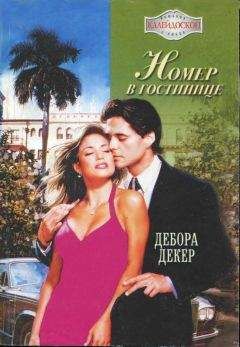стрелял метко: обоих тут же уложил. Потом все горевал: знал бы он, какое они зверье, сразу бы поубивал. А тут к ним другие кинулись немцы. В это время из леса стали стрелять, немцы падать начали один за одним. А та сторона-то горит. Наши деревенские по огородам разбегаются. — Она тяжко вздохнула: — А были такие, что и сгорели. Но продолжала с гордостью: — Однако же и немцев всех поубивали: наши солдаты из леса выскочили, те на мотоциклы, да поздно было. — И опять с грустью: — А танки потом еще стреляли по деревне, по нашей стороне уже — дом за домом, да вот семи снарядов, видать, у них не хватило. А Козлово Село тоже палили, наполовину оно сгорело. Все погорельцы тогда в МТС переселились: там-то построек много оставалось. Потом Козлово Село обратно отстроилось. А Озерки с войны не восстанавливались. Умрем мы, и Озерков не станет, — заключила старуха.
— И кто же живет в Озерках? — спросил я.
— Да семь старух. Прошлый директор все мечту имел на озерках уток развести, ан средствов не хватило. А нонешний, из Москвы присланный, такой пройда дак заносчивый, и все к нам будто внимание, а сам хитростью имучеством нашим завладеть хочет. Говорит, организуем вам дом престарелых в одной избе, а остальные — под пионерский лагерь. В Москве все-то на пионерских лагерях помешаны. Озерки, говорит, в одно большое озеро соединим, рыбу разводить будем. Это он все культурой быта называет. А по-нашему — баловство. Обчественность нас поддерживает. Дайте, говорят, старухам спокойно умереть.
Мы ели дышащую паром пшенную кашу с селедкой. Было необыкновенно вкусно. А от печки шел удивительный жар, пронизывающий, казалось, все тело насквозь, как в хорошей парной с сухим паром. И было такое спокойствие и умиротворение на душе, как в затухающем за окном вечере, фантастически выкрасившем лакированную гладь озерков в нежные тона солнечного спектра — зеленоватые, голубые, розовые и фиолетовые. И все воспринималось как естественное волшебство этого тихого места.
Дарья Терентьевна, так звали мою хозяйку, зажгла керосиновую лампу, и сразу пришел вечер. Мы хлебали «московский — водохлебский» чай с сахаром вприкуску, а Дарья Терентьевна все говорила. Я уже знал, что живыми детьми своими она недовольна, не простит их и на смерть свою приказала им не съезжаться. Забыли они в городе родину свою и, почитай, уже лет десять не были в Озерках. А сын и отца своего хоронить не приехал.
— Грех это, — говорила Дарья Терентьевна, — тяжесть у меня на душе — прокляла я Кольку. Как раз перед смертью Петра Васильевича ездила я в Москву к нему. А у них компания собралась, да все и не поймешь, какого рода-племени, да все над деревней потешаются. Не выдержала я, да вмешалась, да как пошла их стыдить — все торжество и разрушила. Дак жена его, злюка черная, чуть не с кулаками на меня набросилась.
— Да ить плохо это, — вздохнула Дарья Терентьевна, — когда баба в доме верховодит. Толку тут мало. А Колька-то мой хоть и видный мужчина, да характером мягкий. Прогнали они меня из Москвы: мол, опозорила я их. Да я бы сама уехала. Только обидно мне было, что поганят они языками своими, глупыми и бесстыжими, землю, на которой родились. Муж мой, Петр Васильевич, сам из Озерков выезжать не любил, а то бы он им похлеще слова подыскал. Я ему все выложила, как в гости-то съездила. Вижу, загрустил он и приказал, чтобы на смерть Колька-отлучник не являлся. Вскоре он и умер. Я-то ослушалась его: телеграмму Кольке настучала. Смерть-то всех мирит. А он, сукин сын, сочувствие мне прислал и пятнадцать рублей деньгами. Вот каким, поганец, в Москве-то стал! А Маруську, — говорила Дарья Терентьевна, не останавливаясь, — я прощаю. Далеко живет, аж в Челябинске. Нынче жду ее. Отписала, что на юг поедут купаться, в Москве остановятся — нет, не у Кольки, а у знакомых своих — и обязательно меня навестить приедут. Жду не дождусь. Уж на внуков перед смертью больно хочу посмотреть. Большие уже: одному шешнадцать, а другой поменьше года на три...
К Озеркам приближался частый стрекот трактора.
— Это Семен едет, — недовольно сказала Дарья Терентьевна. — У него, видать, свидание повечеру с учителкой. Как, однако же, жизнь переменилась! Могла ли я до замужества так вертихвостить? Аль даже в мыслях мужу изменить?
— А Семен-то курит? — спросил я, подстраиваясь под старухин говор и вспомнив, что мои сигареты безнадежно размокли и поломались.
— Дымит, как печная труба. — И старуха для убедительности махнула рукой. — Конечно, он в беспокойстве: учителка все же знает много, — продолжала она заинтересовавшую ее тему.
И вдруг я подумал, что старуха постоянно разговаривает вслух, потому что привычно сидела она напротив фотографий и время от времени, забывая обо мне, привычно к ним обращалась, особенно к той, где ее муж, Петр Васильевич, снят удалым молодцом в военной форме с Георгиевским крестиком. И когда она смотрела на фотографии, ее чисто синие, васильковые глаза молодели, сияли, будто подсвеченные изнутри. И хотя изба была пуста, она казалась одухотворенной, и люди, ее близкие, о которых она говорила, как бы незримо здесь присутствовали, но молчали, так как старуха не давала им слово вставить.
— А что ему, Семену, — говорила она, — разве страх у него есть или совесть? Плюнет он на совхоз да с учителкой в город укатит. И она бесстыжая: молоденькая,а вон к нему открыто ходит. И раньше такое было, да стыдились люди на глазах у всех греховодить. А нонче даже этим гордятся. Совсем обессовестились люди. Да ты иди, вон он подъехал к Пелагеиной избе. Она-то их и приютила. Сама всю жизнь беспутная была, беспутство и поддерживает.
— А почему же на тракторе? — спросил я.
— А на моторе быстрее. Чего же ноги сбивать...
Я вышел во двор. Легкое тарахтенье колесного трактора умолкло, и округа опять наполнилась безбрежной, чуткой тишиной. На небе, за холмом, куда ушло солнце, лежали яркие полосы нежного белого света. Там вспыхивали зарницы. И было достаточно светло, так, что под ногами виднелась дорога.
Семен удивился, увидев меня, и смотрел настороженно и недобро, даже сунул руку под сиденье, видно за гаечным ключом. Мне пришлось вновь повторить мою