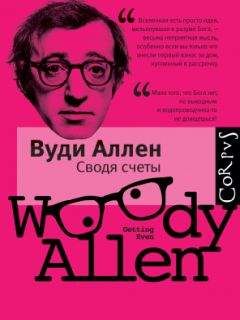Дядька раскрывал рот, как первоклассник перед эскимо.
Несмотря на свои семьдесят дядька был ребенком. Радио, магнитофоны, воки-токи были для него, как игрушки. При их виде глаза его загорались, он вертел, крутил, проверял внутренности. Всему он радовался, как мальчик. Он перепробовал все мороженые, пережевал сотни жвачек, кусал манго и пил кокосовое молоко.
— Если б Ленин не умер, — повторял он, — у нас бы и кокосы были…
Виль возил его по всей стране — поднимался в горы, залезал в пещеры, ел «bouilla besse», пил молодое «божоле», вдыхал покой и мир на зеленых равнинах.
— Ну, что я тебе скажу, Виллик, — вздыхал он, — меня в жизни потрясли две вещи — война и это! Ты взгляни, какие здесь дома, какие карбюраторы у машин и как ощипаны куры!
— Все это материя, дядька, — отвечал Виль, — материя.
— А о духовном мы с тобой говорить не будем. Мне туда возвращаться!
О политике дядька не говорил.
— А ну ее к чертям собачьим, — давай лучше споем.
И затягивал что-нибудь военное: «Вьется в тесной печурке огонь».
Виль подхватывал.
— А о чем здесь поют? — спрашивал дядька.
— Как прекрасно в горах, в час зори молодой.
— Тоже неплохо… Просто, чем бы я был без войны? Я б даже немецкого не знал… Мне нельзя языки изучать. Мне для французского нужна война с Францией.
— Дядька, — попросил Виль, — обойдись без французского. Я люблю Париж.
О духовном дядька не говорил — он читал.
Он брал с полки книги и скрывался у себя. Всю ночь напролет из его комнаты доносились вздохи, мат — дядька читал Солженицына. Когда он выходил утром — его качало.
— Пьянею, — говорил он, — чистый спирт! Зачем я приехал, Виллик?
— Оставайся, дядька? — предлагал Виль.
Дядька взрывался:
— Я? Член партии? Панцирь официр?!
И вновь уходил читать. Из комнаты доносился рев, проклятия, однажды он вышел в слезах.
— Что такое, дядька? — спросил Виль.
— Сволочи! — вскричал дядька. — Кто бы мог подумать, что они такие сволочи?!
— Кто, дядька?
Он метнул взглядом, но не ответил.
Он был абсолютно потерян. Все, что создавали в нем на протяжении 70-ти лет — рухнуло в три дня.
Хотя дядька это отрицал.
— Не преувеличивай. Рухнула всего половина. Вторая держится и довольно неплохо.
Однажды ночью, читая, он рухнул с кровати. Виль думал — гром. Он вбежал, весь бледный.
— Не волнуйся, — успокоил дядька, — это не я. Это вторая половина.
Он перестал ездить по стране, стоять у витрин, любоваться игрушками — он пожирал литературу.
Однажды утром он явился к Вилю с грудой книг на руках.
— Забери, — угрожающе попросил он, — мне возвращаться надо. Забери!..
С тех пор дядька не дотрагивался ни до одной книги. Он бродил в орденах по городу и думал. Он был все так же красив, дядька, но не так радостен.
— Не переживай, дядька, — говорил Виль, — меня тоже это потрясло, когда приехал. Потом привык.
— Ты меня не учи, — оборвал дядька, — я пол-Европы на пузе прополз!
И снова уходил из дому и бродил вдоль лингвистической речки и думал на русском на всех ее берегах.
Виль не знал, как дядьку развеять.
Он ему говорил, что и здесь не все хорошо. Что он одинок, нет друзей, люди равнодушны, язык забывает, мясо постное.
— Я тебе сейчас дам по шее, — сказал дядька, — я три часа стою за кислой капустой! Я им всю жизнь отдал и кусок ноги. А они меня обманывали. Зачем я сюда приехал, Виллик?
Дядька запил. Он пил молодое «божоле» и пел песни времен войны.
Виль пошел да крайнюю меру, на лечение шоком — он купил дядьке «видео». И вывел его из странного состояния. Тот влюбился в аппарат, часами записывал. И только историю — Ленин, Троцкий, процессы, чистки, война. Он просматривал их по десять раз, анализировал, сравнивал. Потом он задал Вилю вопрос: — Ты говоришь, что хорошо разбираешься в видео. Тогда скажи — как переписать фильм с одной кассеты на другую?
Виль несколько растерялся.
— Тут нужно два магнитофона, — ответил он.
— Что я и думал, — закачал головой дядька.
Дядька дико возражал, но Виль купил ему и второй. Дядька сидел целыми днями дома и переписывал политические фильмы — гремела гражданская, картавил Владимир Ильич, звал в бой Троцкий и мягко улыбался Сталин.
— Дядька, — кричал Виль, — тебя арестуют на границе!
— Меня? Члена партии? Панцирь официра?!
После прочтенных книг эта фраза звучала как-то менее уверенно…
Чтение он возобновил, но довольно странным образом — он читал только Мандельштама.
— Мне на плечи кидается век-волкодав, — декламировал он по утрам, — но не волк я по крови своей!..
Перед отъездом они пошли в китайский ресторан. Дядька ел палочками, чертыхался, у него все падало. Потом он как-то тяжело повернулся к Вилю, как-то грузно и печально произнес:
— Всю-то я свою жизнь просрал, Виллик.
И добавил:
— И кокоса там не будет. Даже если Ленин воскреснет…
На вокзал они взяли маленький грузовик — дядька увозил дневную продукцию «Philips». Вещи заняли весь кузов. Они тряслись рядом. До поезда оставался еще час. Они сели в кафе, прямо на перроне и молчали. Пили «божоле» и молчали. Потом дядька захотел воды.
— Как вода по-немецки? — спросил он.
— Не помню, — сказал Виль. Ему было не до воды.
— Постой, постой, как же это, похоже на идиш.
За полчаса до отъезда дядька начал вспоминать, как вода по-немецки. Время текло. Вдруг он закричал.
— Вассер, — завопил он, — вассер!!!
Официант побежал приносить.
— Ну, что я тебе говорил, — торжествовал он, — все это ерунда, что языки забываются. Я то не забыл!..
Наконец, подали советский вагон. Виль содрогнулся — темный, с подтеками, с запертой дверью и задраенным окном. Из остальных вагонов улыбались, высовывались по пояс, дымили сигарами, они были пронзены светом. От этого, с гербом, пахло страхом и холодом. Казалось, к составу прицепили тюрьму. Из нее выпрыгнул проводник — подонок в черном галстуке и желтой рубахе, видимо, лейтенант, возможно, старший, палач-любитель.
Дядька протянул ему билет и подонок раскрыл рот: он орал на дядьку, тыкал, толкал в места, где были пули — в билете было что-то неправильно. Дядька растерялся — за месяц он отвык от всего — от таких харь, такой злобы, такого хамства. Он забыл все это, бедный дядька.
Но он быстро вспомнил, он все восстановил в секунду. Из глаз его блеснула молния, изо рта ударил гром!
— Их бин панцирь официр! — рявкнул дядька. — Их бин Сталинград.
Проводник обалдел. Он неожиданно отдал честь и взял на караул.
— Грузи, паразит, — приказал дядька.
— Яволь! — выстрелил проводник и начал грузить дядькины вещи.
— Да не бросай их так. «Philips»! — говорил дядька.
— Слушаюсь! — его правая рука взлетела к дубовой голове, — слушаюсь, товарищ панцирь официр!
Он укладывал вещи, как младенцев.
— Разрешите погрузить вас, — проводник старался приподнять дядьку.
— Пошел вон! — сказал тот.
Объявили отправление. Они припали друг к другу. Знаменитое дядькино пузо дрожало. Он не мог произнести ни слова. Дядька уже стоял за окном, задраенным на века. Он не плакал. В глазах его плыли легкие облака. Тюрьма тронулась, и Вилю сдавило горло. Он побежал за поездом, сдерживая слезы и маша рукой. Соленые капли мешали ему смотреть. Когда он стряхнул их — дядьки за окном не было. Он исчез. Виль остановился. Поезд несся мимо. Когда он отгрохотал, на платформе, на той стороне, он увидел дядьку, одного, без «Philips», большого и доброго, какими бывают только дядьки.
— Дядька, — закричал Виль, — как ты выскочил? Там же все задраено, дядька?!
Дядька смущенно улыбнулся.
— Их бин панцирь официр, — сказал он.
* * *
Оценки лекций у Виля были довольно странные — если ему удавалось рассмешить студентов, если они ржали, если Президент на стене трясся от их хохота — лекция считалась блестящей.
Если нет — отвратительной.
Никакие другие аспекты во внимание не принимались. Почему нужен был смех при изучении дательного падежа или хохот при прохождении причастий — объяснить он не мог.
Себя он чувствовал актером, их — залом и, по всем законам, должен был сорвать аплодисменты в виде гогота — или уйти.
Университет был театр, как, впрочем, и вся жизнь, просто он хотел превратить его в театр комедии.
Каждая лекция было яркое представление. Зритель шел на русскую комедию с русским комиком в главной роли. Зритель был умен и благодарен — аплодисменты, бис, крики «браво»!
— Что там у вас происходит? — поинтересовался Ксива, — бис, овация. Возьмите Бьянко — мир и покой. Было две старухи, одна померла, никто даже не услышал. У Клячи — ходят по струнке, слышно, как карабкается паук. Или я — вы слышали у меня смех? Хохот? Поймите, зданию восемьсот лет, оно видело мавров, евреев, а вы его сотрясаете смехом…