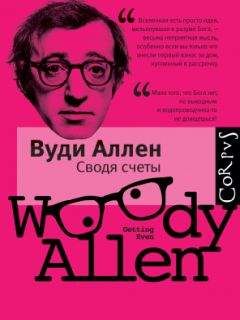Ксива ненавидел автомобиль. Он скакал в Университет на «Чекисте», которого привязывал в паркинге и платил за стоянку.
Иногда посреди лекции раздавалось призывное ржание, и Марио извинялся, плевал на Фета и Тютчева и бежал давать овес.
И вот такой человек оказался под конем…
Местная газета написала «Legerment blesse», но это был не «legerment» — неожиданно Ксива начал думать, говорить, что думает, и возненавидел лошадей.
То, что он сразу же после попадания пнул «Пегаса» и обозвал его «сукой» — еще можно было понять, но он выбросил из кабинета всех лошадей, вместе с Ворошиловым и Пржевальским, на вырученные деньги купил «Макинтош», и, в довершение ко всему, полюбил Виля — за глаза и широкие скулы.
— Мне кажется, вы все-таки татарин, любовно говорил он.
— Нет-нет, вы же знаете, я наполовину русский, наполовину…
— Да, конечно, но в сумме — татарин?
Он ставил Вилю в вину одно — что тот никогда не ел конину… Странности усиливались день ото дня. Жена Ксивы не знала, что предпринять. Она уложила его в кровать, ходила на цыпочках, ставила компрессы, говорила шепотом, периодически включала Баха, большим любителем которого был Марио. Ксива долго молчал.
— Выключи Баха, блядь! — наконец, сказал он.
Бах выключился сам, а жена рухнула на тахту, будто под «Пегаса» попала она, а не Марио. За семнадцать лет совместной жизни он ни разу не назвал ее не только «блядью», но даже «потаскухой»… Это была образцово-показательная семья, ее ставили в пример скаутам…
— Что ты сказал, Марио? — протянула она.
— Что ты — курва!
— Боже, у тебя жар! Бред! Я вызову врача.
— Мне хорошо, как никогда! Если ты седьмой год живешь с кем попало — это еще не означает, что у меня жар!
Ксива развелся с женой и купил себе новую — метиску с острова Святого Маврикия.
— Могу себе позволить, — говорил он Вилю, — я хорошо зарабатываю…
Честность принимала угрожающие размеры.
Вскоре Ксива ворвался под купол к ректору.
— Вы синилен, мсье, — объявил он, — вы слабоумны, герр, вы вонючее ничтожество, годное только для жертвоприношений…
Марио ждал изгнания из Университета, но уволили профессора Гердта — к этому времени ректор почти ослеп, путал людей и голоса.
Студентам Ксива признался, что никогда не читал Толстого.
— Откуда, друзья мои?! Вы когда-нибудь видели, сколько он понакатал — девяносто толстенных томов! И все по-русски, по-русски! Хотя все, что он написал на иностранных языках — я прочел. Например, начало «Войны и мира». Помните: «Eh bien, mon prince…»
Ксива вдруг написал книгу, полную идей и мыслей — и тут его чуть не уволили — это шло вразрез с традициями Университета…
Его начали избегать — он резал правду прямо в очи.
Заведующему кафедры философии, у которого стены кабинета были завешаны дипломами, как у Ксивы когда-то лошадьми, он сказал:
— Сколько дипломов, профессор, и нигде не указано «Идиот».
Вскоре Ксива остался один, со своей правдой.
Но его это не смущало. Он чувствовал себя двадцатилетним марафонцем, спартанцем и эллином одновременно. Он обрел истину. Ему было легко, впервые за многие годы он начал бродить по городу, просто так, бесцельно, насвистывая и напевая. И всюду встречал старых знакомых.
— Как чувствуете себя, герр профессор? — приветствовал его хозяин кафе, где он иногда сиживал.
— Отлично, старый обманщик, несмотря на то, что столько лет ты мне подаешь вчерашнюю ветчину и выдаешь новый сидр за старое бургундское.
— Comme vai, professore, — окликали его из картинной галереи.
— Benissimo! — откликался он. — Как идут подделки и фальшивки?
— Je vous salue! — приветствовал знаменитый адвокат.
— Гуген таг, вымогатель! Кого сегодня надули — старушку, романтика, шалопая?
— Не туго ли стало со взятками? — озабоченно спрашивал Марио судью…
Вскоре ему было не с кем выпить бокальчик вина, обсудить новости, сыграть партию в теннис.
Он играл со стенкой, посылал сам себе открытки, с нетерпением ждал их и пил с Вилем. Он влюбился в него.
— Какое счастье, что я попал под коня, — говорил Марио, — ведь мог умереть, так никогда и не попав… Я люблю женщин — а жил с обезьяной, люблю водку — а пил обезжиренное молоко, люблю болтаться бесцельно по городу — и целыми неделями не вылазил с кафедры… Виль, вы не хотите попасть под лошадь?
— Нет, мерси, папа побывал под машиной… На нашу семью хватит.
— Впрочем, вам и не надо. Вы такой, будто уже побывали под ней… Почитайте-ка мне Мандельштама.
— Я познал науку расставанья… — начинал Виль.
Марио пил, бил зеркала, размазывал по щекам слезы.
— Давайте Ахматову, — просил он. Ахматова его успокаивала.
— Здесь все меня переживет… — начинал Виль.
— Не рви душу, — вопил Марио, и рвал на себе рубахи.
— …Все, даже ветхая скворешня, и этот воздух, воздух вешний…
Ксива ревел.
— Хочу скакать в степи, — орал он, — хочу быть русским…
— Не надо, — отговаривал Виль, — далеко не ускачете…
Ксива воспевал Виля как писателя, как педагога, как человека: он читал лекции: «Виль Медведь — трудная судьба сатирика в России» и «Виль Медведь — нелегкая судьба сатирика в изгнании», он написал научный труд «Приемы комического у Медведя»…
Это было солнечное время для Виля, но он знал, что оно недолговечно и призрачно, как перестройка, и не сегодня-завтра кончится.
Но оно кончилось раньше…
* * *
Дядьке в пятиязычном городе было как-то не по себе, чего-то не привыкал дядька.
— Спокойно очень, — жаловался он, — мне надо, чтоб пахло жареным, чтоб из леса выходил волк…
— Для чего? — интересовался Виль.
— Чтоб порвать ему пасть. На войне меня не убило, Виллик, но покой может меня повалить. В безопасности ноют мои кости, и покой беспокоит меня. Лучше всего я чувствую себя между двумя опасностями — которая миновала и которая грозит. Тогда я много курю и ем жирное мясо с луком. А здесь? Ни опасности, ни жирного мяса! Куда я выпрыгнул?!!
Виль успокаивал, говорил, что это обычные трудности адаптации, пройдет.
— Ну, пройдет — и что дальше? Что я здесь буду делать? Единственное, на что я способен — преподавать мат в вашем Университете. Вакансии есть?.. Что это за город?!! Ни одного танка! Даже на памятнике! Мужчины на женщин не смотрят, чемоданы возят на колесиках! Заголовки газет: «В скором поезде унитаз обрызгал жопу!», «Он зарезал своего дантиста»! Не с кем выпить, закусить. В гости не приглашают и не приходят. Евреи — странные — балакают на пяти языках, а по-русски ни бельмеса. Нет, Виллик, мне нужна стена — перелезать, перепрыгивать, пробивать. Иначе задыхаюсь.
И старый дядька показывал, как он задыхается.
— И вся-то наша жизнь есть борьба! А здесь? За что ты здесь борешься? Твои мускулы ослабли! Юмор затупился. Мудрость поглупела. Потому что ты ни за что не борешься! Мозг, тело — все должно бороться! Налей-ка, племяш, что-то тесно в груди…
Дни текли за днями. Неожиданно дядька заинтересовался еврейством, часами читал историю еврейского народа, вздыхал, вскрикивал.
— Какие у нас были герои, Виллик?! Я ж ничего не знал, — Моисей, Бар-Кохба, Иуда Маккавей…
В честь Маккавеев он справил Хануку, притащил менору, зажег свечи. Огонь завораживал его.
— Я вижу, как они бьются, братишки! — говорил он. — Нет, есть Святая Земля, земля евреев, воинов, — больше всего его привлекали воины, — я хотел бы сразиться с римлянами, с Титом, с паскудой Адрианом!!! Что я здесь делаю?! Ем клубнику?! Зачем мне клубника в январе, когда всю жизнь я не ел ее даже в июле?! На кой хрен ягода, когда там — воюют?!!
* * *
Он засел за изучение танка «Меркаба», самолетов «Квир», «Лави», он знал наизусть все операции Моше Даяна.
— Где были остановлены танки третьей египетской армии? — спрашивал он.
Все шло к логическому концу.
Однажды дядька явился и показал Вилю билет на самолет.
— Ну вас всех в болото, — сказал он, — оставайся, я уезжаю.
— Куда, дядька?
— В Решон Лецион, под Тель-Авив. Осточертело мне здесь. Там свои, там воюют, там цветут апельсины.
— И что ты там будешь делать?
— Лежать под апельсиновым деревом и читать историю моего народа. А если эти бляди нападут — сяду в танк, — он похлопал себя по животу, — еще влезу!
Розовая печаль вползла в комнату.
— Мы опять расстаемся, дядька…
— Приезжай, Виллик, под апельсином всегда есть место…
* * *
В Мавританской гостиной все было шиворот-навыворот: серьезные вопросы обсуждались весело, веселые — серьезно, любили не деловых, а шалопаев, не торопящихся, а просиживающих часами за кофе, за важность — изгоняли, за меткое слово — прощали все, и чем больше было официальное признание, тем меньше уважали.