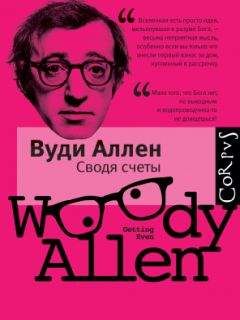Что веселого в Достоевском? Раскольников зарубил старуху — что в этом смешного? Нет, нет, вы нарушаете наши университетские традиции!
— Господин Ксива…
— Не перебивайте… И потом, эти ваши дружеские отношения со студентами. Они до добра не доводят. Некоторые коллеги видели, как вы их целуете.
— По-дружески! От чистого сердца.
— Не надо. Даже от чистого. У нас не принято… У нас не целуют даже перед, вы меня понимаете?
— Н-не совсем.
— Короче, прекратите целовать, особенно мужчин…
Но поцелуи, объятия, восклицания не прекращались.
Они были друзьями, и лихие пассажиры тройки не могли ему это простить.
Все, изучавшие русский, так или иначе были ненормальными. Нормальные штудировали право, медицину, банковский бизнес. Их ожидало светлое будущее, голубое Гаити, шикарные женщины. И белокрылые яхты.
Ненормальных — офис по безработице.
Вилю даже казалось, что они не из этого города, хотя они происходили из семей со стажем от восьмисот лет и выше. Одевались они, как в Мухосранске, у них не было денег, мечтали о какой-то романтической любви, и ночью, когда нормальные спали, гуляли под луной.
Если Виль бродил ночью, он встречал только клошаров, проституток, Бема с «Литературоведом» и своих студентов.
Это было веселое братство. Он предпочитал ночной город — дневному.
Закрывались банки и открывались сердца…
Знание ненормальных отличалось от знания обычных горожан.
Они не знали фамилии Президента, но наизусть шпарили:
«Ни страны, ни погоста не хочу выбирать. На Васильевский остров я приду умирать…»
Их манил Васильевский, откуда Виль смылся.
Они не знали курса валют, но знали все фильмы Тарковского.
Они хлопали Виля по плечу, пили водку и плакали над песнями Галича.
«Когда я вернусь…», — пели они.
Они вообще умели плакать.
Короче, нечего продолжать, они были ненормальными, чокнутыми, со сдвигом. Как все, кого любил Виль, как та далекая женщина, которая смеялась его шуткам…
Откуда приходят «Урхо», те, кто сидят в куполе, скачет на «Чекисте»? Его очень интересовал вопрос, как и когда ненормальные становятся нормальными.
Временами он ненавидел ТУ страну, но учил их любить ее, из-за проклятого языка, в который он был влюблен!
Он водил их по Васильевскому острову, по первому снегу, по мостам Малой Невки, и они любили его.
Они знали, что такое шашлычная, сколько надо дать швейцару, как курить «Казбек», чем пахнет апрельский вечер, какой туман на Разъезжей, какого цвета рассвет.
Он рассказывал им про первую драку во дворе, про первый поцелуй на Фонтанке, морозным вечером, возле Аничкова моста, про Адмиралтейскую иглу, которая протыкала белое ленинградское небо и застряла навсегда в его сердце.
Про колодцы дворов, разбитые лампочки, запахи театра, вкус огурца из огромной бочки и тюбетейку, подаренную дядькой.
«На фоне Пушкина снимается семейство, — пели они вместе, — как обаятельно, для тех, кто понимает…»
Они знали, что такое белая ночь, что Литейный разводят в час тридцать, а Дворцовый — в два, что окна квартиры Пушкина выходят на Мойку, что Фонтанный Дом — это Анна Андреевна, а Блок — острова…
«Как обаятельно для тех, кто понимает…»
Он рассказывал им о видах глаголов, как о собственной жизни.
— Я глагол совершенного вида, — говорил он, — у меня нет настоящего. Только прошлое и будущее простое…
О чем бы он им ни рассказывал — о глаголах, Достоевском, падежах, Чехове — он рассказывал о себе.
И они любили его за это.
— У нас вольный порядок слов, — рассказывал он, — «Я тебя люблю», «Люблю тебя я», «Тебя люблю я». Несвободная страна и свободный язык.
У вас — наоборот.
— Что вы предпочитаете? — спрашивали они.
— Свободный язык на свободной земле.
Иногда он рассказывал про Мавританскую, про Харта, про афоризмы Качинского в Летнем саду.
— Это победа! — говорили они, когда Виль читал им свои рассказы.
И он улыбался.
«Как обаятельно для тех, кто понимает…»
Иногда про свой Пищевой — они валялись со смеху. Хотя про Пищевой он рассказывал уже в кафе, обычно вокзальном, второго класса. Оно напоминало ему родной Питер — там было шумно, накурено, полно пьяных — они пили вино, вишневую водку, горланили и, несмотря на то, что давно не было войны — не дрались.
— Боже, что я только ни изучал в этом Пищевом, — говорил Виль, — я не помню не только предметы, но даже их названий… ничего не пригодилось, даже история — утверждали, что живем в просвещенную эпоху, а жили в средневековье. Даже физика — она врала — при трении человеческие отношения охлаждаются… Нет, надо было бы изучать «Историю глупости», «Основы лжи», «Приемы хамства» — тогда можно было бы чего-нибудь достигнуть. Надо было штудировать «Историю всемирного блядства»… На что ушло время?!
Виль вздыхал и заказывал водки: «Когда я вернусь, ты не смейся, когда я вернусь…»
Ненормальные обожали его…
Насчет химии он был неправ, химия пригодилась. Он был великим химиком, Виль Медведь, гениальным мастером реакции замещения — после его рассказов печаль замещалась отрадой, грусть — светлой радостью и плач — смехом.
Все замещал он смехом. Он знал, Виль — все исчезает — цивилизации, пустыни, моря. Но так печально, когда исчезает смех…
* * *
За исключением своей страсти к лошадям Марио Ксива ничем не отличался от остальных жителей города. Он жил в небольшом особнячке с громадным бомбоубежищем и длинной, тощей женой.
В том, что бомбоубежище было гораздо больше дома, не было ничего необычного — по расчетам Марио после атомного взрыва выползти наружу можно будет только лет через семь. К тому же в убежище был специальный, армированный отсек для лошади — после взрыва Ксиве хотелось первым, еще до появления на улицах машин, пронестись по полям, распевая «Мы — красные кавалеристы»…
Жена его, от одного вида которой вяли хризантемы, занималась благотворительной деятельностью — собирала деньги для бывших наркоманов и бывших членов иранского парламента, поселившихся в их городе. Она была оптимисткой, энтузиасткой и целовала Марио в щеку так звонко, что с нее брали пример скауты.
Периодически Ксива играл в гольф с местным судьей, рассуждая о справедливости и правах человека.
— По неподкупности вы напоминаете Робеспьера, — говорил ему Ксива.
Судья скромно улыбался и разводил руками.
Иногда он засиживался за бриджем с четой врачей, с которыми увлеченно беседовал о СПИДе и презервативах.
— Не забудьте запастись ими в бомбоубежище, — советовал врач.
Сотрудники кафедры любили Марио — он их добродушно называл южными лошадиными кличками: Бьянко — Буяном, Танюшу — Клячей, а саму кафедру — конюшней.
Свою страсть он передал и коллегам — Кляча с Бьянко купили по коню, и иногда они запрягали всех трех, усаживались в бричку и под свист выписанного из России кнута и разгульные вопли Клячи носились вдоль реки.
— Эх, залетные! — орала она.
— Уважаемая Кляча, — говорил Ксива, — вы опять напились?
— Ксива, — отвечала она, — не кизди! Одной бутылкой?! Это только начало! — И Кляча замахивалась кнутом.
— Ради Бога, только не касайтесь кнутом лошадей! — просил Марио. — Лучше скажите им, что хотите. Они понимают.
— Я не могу ругаться матом на весь город, — объясняла Кляча. — Меня бросит Карл Иванович.
— Хорошо, тогда дайте им овса.
Деньги, выделяемые кафедре на научные разработки, компьютер и командировки, уходили на корм — рожь, овес, пшеницу, сыры — лошади особо любили «Эменталь» с дырками.
Короче, кафедра до самой атомной войны могла бы жить полнокровной жизнью, если бы не ужасное происшествие, случившееся с профессором Ксивой.
* * *
Ирония судьбы — историки попадают под колесо истории, сапожники — под сапог, судьи — под суд… Марио Ксива попал под лошадь…
Это было трудно, почти невозможно — во всем городе было всего четыре лошади, из них три принадлежали славянской кафедре, и одна — Пегас — туристическому обществу «AMALIA», под которую Марио и угодил.
Вообще-то попадать под лошадь в городе было совершенно немодно — последнее попадание было зарегистрировано где-то лет двести назад, когда через город рысью прошла конница Наполеона.
Горожане предпочитали «Мерседесы», «Роллс-Ройсы», «Кадиллаки» — они любили попадать под то, на чем ездили.
И если рассматривать инцидент с Марио под этим углом, то он выглядел вполне логично.
Ксива ненавидел автомобиль. Он скакал в Университет на «Чекисте», которого привязывал в паркинге и платил за стоянку.
Иногда посреди лекции раздавалось призывное ржание, и Марио извинялся, плевал на Фета и Тютчева и бежал давать овес.