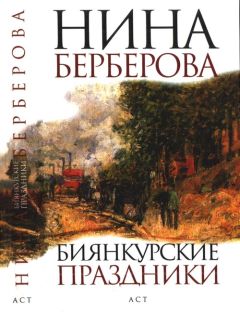Да, по правде сказать, не пытался я забыть их. Что и было мне помнить, как не их. Кажется, нечего. Вспоминал я и дом, и окошко, и акацию, словно все это еще продолжало существовать, словно не перенеслось на тот свет целиком, с занавесками, дверными ручками, по милости великолепно попавшего снаряда. Будто не вознеслось это дорогое здание, со всеми своими наличниками, в райскую долину, а доживает мирный век в тихой улице с прелестной женщиной, то есть девушкой, в окне.
И чем дальше я уезжал, тем сильней стремился душой к этой однажды виденной картинке в раме. В Саросском заливе ныло сердце, в Тырнове из трех ночей не спал одну, в Рэднике обсуждать стал, а не было бы этой картинке естественно тоже оказаться в далеком странствии? А когда переехал я в Прагу — не хочу хвастаться, был я в Праге, — стал я внимательно вглядываться в женский персонал русской столовой. Надежды меня одолевали.
В то время моему путешествию шел шестой год и конца ему не предвиделось. И вот в этой самой Праге я ее увидел.
— Здравствуйте, — сказал я, — имел честь быть с вами знаком в тяжелую для всех и каждого эпоху гражданской войны.
— Простите, — сказала она, — я вас не знаю.
— Простите, — говорю, — вы меня знаете: вот наперсток ваш.
И тут же на лестнице вынимаю слегка помятый, но все еще приличный наперсток.
— Извиняюсь, — говорит опять, — я наперстка не теряла.
Но я не отпустил ее, наоборот, пододвинулся слегка.
Я готов был взять ее за руку, но до этого не дошло. С тех пор как прижимала она к груди крынку молока, успела она волосы завить и платье новое купить.
Люди в русскую столовую ходили не окончательно бедные, не, так сказать, последнего полка люди.
— Знаете ли вы, что от дома вашего и соседних домов ни черта, с позволения сказать, не осталось?
— Какого дома? Что вы путаете? Какой-то вы странный.
Я близко подошел к ней. Она была мне по плечо. Глаза у нее были те же.
— Сейчас в кино известный американский боевик идет, — сказал я, — может, пойти нам с вами?
— Что ж, пойти можно. Мерси.
В Праге туман, как в поле. Очень я ее тогда потерять боялся. Я держал ее под руку, я наклонялся к ее лицу, чтобы глотнуть немножко ее воздуху. Я видел каждый волосок, каждую веснушку, когда мы проходили под фонарями, и, так как приятнее этого ничего не могло быть, я старался вырваться из тумана под самые фонари, и то влево, то вправо тянул ее и заглядывал ей в лицо.
Когда посмотрели мы американский боевик, была уже ночь.
— Завтра я уезжаю, — сказала она.
— Куда?
— В Париж.
Она повела меня темным переулком. Она слегка успела привыкнуть ко мне и изредка посмеивалась. Я слушал ее и видел длинную дорогу, мою дорогу в Париж, крутую, страшную, от которой захватывало дух.
— Здесь я живу, — сказала она вдруг.
Как могла она отыскать нужный дом в таком мраке?
— Что ж, вы возьмете наперсток? — спросил я осторожно. — Или его в Париж привезти?
— Какой вы странный, — повторила она опять, улыбнувшись, и вдруг сделалась грустной и так, грустная, и вошла в дом.
Я пошел от двери, номер запомнился мне — сорок пятый. Может быть, кому-нибудь, кто менее меня вынослив, ужасно на нервы подействовала бы эта ночь. Я — ничего. Я был счастлив.
Париж не Прага. От Праги до Парижа, может, месяц езды — такие города непохожие. Над Парижем небо разрывается, из облаков голубь летит, солнце над Парижем белое. А если идет легкий дождик, на улицах ну прямо танцы начинаются: мужчины (заметили вы?) на носках по лужам ходят, а женщины, перебежав через улицу, сейчас ножку поднимают: смотрят — не забрызган ли чулок? Ну да, забрызган! И бегут дальше.
Это — Париж. А Биянкур — рядом.
Я приехал зимой, утром, раным-рано, в то самое утро, когда на минуточку выпал снег. Не сразу удалось мне покинуть Прагу, прошел год, длинный и трудный год. Приехал я поутру, вещи оставил у товарища, почистился, больше для виду, и пошел. Отыскал улицу и номер. Стал бродить подле него, будто город осматриваю.
Весь этот длинный год я об этом доме думал, воображал его себе. Много в нем народу жило, кроме Танюши, много мужчин и женщин, больших и маленьких. И одна из них (маленькая, конечно) все казалась мне конечным пунктом моих странствий. Версты-шпалы.
Когда я все осмотрел, она вышла, одна, и я перегородил ей дорогу, расставив руки, чтобы она не могла пройти. Она хотела пройти под моей рукой, но остановилась, смотря на меня во все глаза и догадываясь, что это я.
— Вы стали совсем прекрасной дамой, — воскликнул я. И правда, ресницы ее напоминали паучьи лапки, а перчатки были лайковые.
— Я узнала вас, — сказала она и подала мне руку.
— Американский боевик вспомнили?
Но она не помнила.
— Дом ваш был номер сорок пятый.
— Разве это важно?
Что она в ту минуту думала, догадаться невозможно. Она пошла со мной рядом и рассказала мне, что у нее отец в Америке и что она собирается к нему. Оттуда она денег привезет, чтобы замуж выйти.
— За кого?
— Я скоро вернусь, к весне.
И я поехал в Америку… То есть, конечно, нет. Я остался здесь, но вышло так, будто я побывал там, следом за ней. А мосью Рено — это отдельное, это нас сейчас не касается, прошел я к нему через тот ход, что на набережную выходит, откуда прием идет и на работу нанимают и откуда, кстати, когда надо, в три шеи гонят. Словом, следом за ней понесся я, не отставал.
О, Америка, океан! Страна моя родная!
Ходил я вечерами по биянкурским улицам (не смейтесь: над Биянкуром ночью парижские звезды горят!) и думал о том, что в Америке, верно, белый день сейчас. Я видел зеленые ее степи, и куликов, и вишневые рощи, и все ее природные прелести: широкие реки, вроде наших, густые леса, безымянные дороги. Вот как я тогда к Америке относился.
И я думал о себе, о том, что жизнь моя бежит по большим дорогам, что приятели мои давно стоп! А я все еду. И о том, что копотью дышим мы тут с приятелями, и от мартенов нам тепло, и что, несмотря на то что поселился я в комнате от хозяев, верстовые столбы все бегут и бегут мне навстречу.
В рукава задувает нам сильно, каждый вам это скажет. Двумя-тремя рюмками родимого винца — меньшим от этого не оправишься. Не алкоголь, а медицина. Ночью пролихорадит тебя раз-другой, но не больше. Ночи у нас короткие. Если у кого жар, лучше всего крепко дверь припереть, чтобы гость не пришел, и — носом к стенке.
И вот раздается стук в дверь. Левой рукой дверь отпираю, правой свет зажигаю.
— Простите, — говорят за дверью, — вы, кажется, спали? Я была здесь в доме у знакомых, у Петровых (а может быть, Ведровых), узнала, что вы здесь живете, и решила проведать вас.
— Из Америки?
— Из Америки.
Прикрыл я дверь, натянул штаны, пиджак надел, воротник поднял и пальцем запонку у горла закрываю.
Она присела на стул и осмотрелась. Она была у меня, она пришла ко мне. Я был ей нужен.
— Ну как у вас на западном фронте, без перемен?
— Без всяких.
— Поустраивались хоть как-нибудь?
— Поустраивался.
Во рту у нее появился золотой зуб, и волосы были выкрашены в странную, необыкновенную краску.
— А я вас в Америку ждала. А вы не приехали.
Я даже растерялся.
— Не шутите со мной, Танюша, у меня внутри все очень хрупко.
Она положила ножку на трубу отопления.
— Я не шучу. Все думала: а вдруг он слово сдержит? А вы не сдержали.
— Мне, значит, по всему миру за вами гоняться? Расстояниями не стесняться?
— Что это вы стихами заговорили? — как-то неприветливо произнесла она. — С каких пор вы поэтом заделались?
Наступило молчание.
— Не могу я всюду за вами поспеть. Я и так путешествиям конца не вижу. Вся моя жизнь — одни версты-шпалы.
— Какие шпалы? Это которые поперек?
— Они самые.
Она посмотрела в окно. А я не сводил с нее глаз. Я пришел к предварительному заключению, что я не узнаю ее.
Но это была она. Мне показалось, что она ищет, что бы еще сказать, и не находит. А я не мог ей в этом помочь.
— Ну что ж, я пойду. Вижу, что никаких новостей вы мне сообщить не можете. А у меня куча новостей.
Я испугался.
— Денег не привезла и замуж не вышла. Новостей — как на телеграфе. С чего начать, не знаю. В другой раз расскажу.
Голова моя пошла кругом, я сам не знал, что говорю, и палец держал на запонке.
— Выходите за меня. Вы давно моя невеста. Поедем вместе в Харбин. Или в Ниццу.
— Почему в Харбин?
— Недавно один наш тутошний уехал в Харбин, говорит, там лучше.
Она растерянно смотрела на меня, завязывая шарф.
— Невеста ваша… Вы что же, наперсток за обручальное кольцо считаете? Да и дан-то он был не вам.