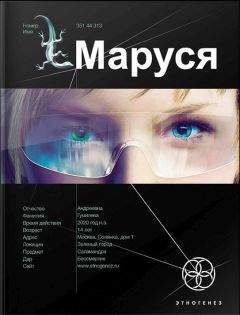А ребенка треплет судорога, словно лоскуток на ветру, Маня скандала того не слышит, хлопочет над мальцом.
В углу темнел лицом урка, наколками, будто паршой, изъеденный. Как шум начался, стал озираться, похоже, беглый, а потом резко щелкнул финкой, приставил перо жиропупу к боку:
– Заткни пасть, заколю, как свинью, – цвыркнул через железные зубы. – Сиди тихо, дядя! Мне здесь кипиш – нах не нах…
Мужик от неожиданности перднул, выпучил буркалки, разинул было пасть, чтоб возмутиться, но тут же передумал, прикусил жало. Понял: этот пырнет!
Болотная лихорадка – болезнь коварная, но незаразная, передается только комарами. Вон та тетка косоглазая говорит – недавно болела. Порассказала соседям: чего надо бояться, а чего нет. Попутчики погалдели да и скоро угомонились.
С другого конца теплушки по рукам передали Марусе пакетик с порошком. На вощеной бумажке химическим карандашом написано «хинин». Маруся встала, прищурилась в полумраке, вертит головой: где, где благодетель? В дальнем углу поднялся старичок – бородка, вроде пенсне блеснуло. Замахал руками: мол, не бойся, это я, я дал лекарство, пои ребенка по чуть-чуть.
Кто-то сердобольный подсунул ложку меда. Кто-то подкинул лоскутное одеяло. Кто-то бутылкой воды обрадовал. Пожалели, пустили на нары, чтоб повыше лежал и к воздуху поближе.
Налаживалось…
Придумала: накрыть сынка, запрятать, иначе больных и мертвых снимают с поезда, оставляют в голом поле. Если их высадят – конец! Все трое умрут.
На очередной остановке, которых было без счету – казалось, у каждого столба стоят по часу, – вошли трое проверяющих. Документы не спрашивали, только пристально оглядывали пассажиров. Чертыхались, перелезая через ящики и узлы. Уголовник шмыганул Маруське под ноги, заполз под нары и притих.
Наконец троица добралась и до их угла. Старший глянул на иссиня-бледного Геночку. Заподозрил неладное:
– Мертвяк? Больной? Будем снимать!
Маруся скукожилась от страху, но быстро взяла себя в руки и решительно зашикала на мужика:
– Тс-с! Какой снимать?! Живой мальчик, спит просто. Да скажите ж вы ему, люди добрые, что носился тока. Уморилося дите. Не орали б вы, товарищ капитан, разбудите!…
Уф! Пронесло беду…
Груженый эшелон полз, как дохлая муха…
На рассвете прибыли в Ташкент.
Пришли пёхом в свой заколоченный дом. Розовый куст захирел без присмотра, но не погиб. Цветов мало, но имеются.
Ничего-ничего, отживеет! Верно говорят: родные стены помогают. В ста метрах чугунная колонка с артезианской водой. В саду виноград переспел. Белый налив стоит с поклеванными плодами, но кое-какие яблоки остались меж листьев – все подмога!
Как дом целехонек остался? Чудо? И не разграбили, и не заняли – чудо! Переселенцев, беженцев, раненых – полный город, а дом нетронутый. Чудо…
Марусенька все вымыла, вычистила, перестирала. Слазила в погреб, достала трельяж. Еле доперла – тяжелый. На комод, на прежнее место выставила. Заглянула в зеркало и не узнала себя. Постарела за год, исхудала, родинка над губой в полгорошины укрупнилась, но не противной бородавкой, а красивой мушкой, как у благородной, и забархатилась. Темным легли круги под глазами. Отпустила шпильки – эх! – волосы поредели. Ничего, ничего… Выгребемся, сдюжим, только бы все живы были! Про Ивана раздумалась, всплакнула… Про Володю горемычного вспомнила и разрыдалась.
Бабьи слезы тоску-печаль обмывают и хоронят. Хорошие, важные слезы у баб.
На пособие, что семьям фронтовиков давали, и небольшие накопления не разживешься, надо было срочно работу искать. Детей в доме одних закроет, еды на день оставит, а сама в поход по заводам-фабрикам – наниматься. Да все ей не везло: то начальника нет, то набрали уже.
Плелась грустная Маруся в один из вечеров домой. Опять не устроилась. На Ташсельмаш явилась, на кадрах – замок, как говорится: поцеловала пробой. Решила: завтра на артиллерийский завод пойду. Правда, мрут там, у станков, работа невыносимая. И хоть восемьсот граммов хлеба выдают – больше, чем в других местах, – все одно люди не выдерживают, так и валятся в цехах замертво…
Идет, задумалась, да ка-ак споткнется о деревяшку! Шваркнулась, колено расшибла, подошва у башмака рот разинула – подметка оторвалась. Вот те на! Коленка-то подживет, а туфлю жалко! Хм-м, дровами в такое время раскидываются! Отличная дощечка, сухая, вот и уголок обгорел, на растопку – в самый раз! Нет худа без добра. Возьму! Подымает… и столбенеет…
В руках у нее старинная икона. Закопченная, страсть! По краям масляная краска растрескалась, облупилась. Только лик Божьей Матери ясный, чистый. Глаза, словно живые, сияют. Смотрит на Марусю ласково. Младенчик Иисус притулился к матушке, улыбается.
Прижала Маня икону к груди и понесла домой. Завернула в чистое полотенце и прибрала под тюфяк в изголовье, чтоб никто не знал. Тс-с! Теперь обе Маруси – вместе!
Вот с чего с самого утра такая духота? К дождю, не иначе.
Маруся разбудила детей, покормила чем Бог послал. Собралась и пошла опять в отдел кадров Ташсельмаша без настроения.
Вроде переставляет ноги, а ножки-то не несут. То там остановятся, то тут забуксуют, переминаются, тормозят. Не идут ноженьки, хоть плачь!…
Впереди шаркают две бабенки. Уставшие? С бодуна? Переговариваются. Улица пустынная, Мане каждое слово слыхать. Одна другой: мол, пошли сегодня на мукомольный комбинат устраиваться, там грузчицы нужны. Берут сильных, выносливых. Мы с тобой вона какие справные, точно возьмут. Рассмеялись, как закудахтали. Зато, говорят, окромя зарплаты, кормят в столовке и еще зерно дают.
Маня резко останавливается, секунду думает – и пулей на мельницу. Ножки-птички!
В кадрах начальником лысый мужик-боров. Развалился на стуле, то и дело отхлебывает чай из пиалы. Баб осматривает, как скотину на базаре. Принимает, отказывает, по ходу отпускает шутки грубые, сальные. Женщины скрипят зубами, терпят – только б устроиться.
Доходит очередь до Маруси. Не в пример другим, наша никудышная, коротенькая и щуплая.
– Ну, ты-то куда лезешь, заморыш? Тебе на кладбище место. Дохлятину в грузчицы не берем, сказано же!
Маня как ринется на мордастого:
– Это я дохлятина?! – Табурет подхватила и замахнулась. – Щас как оховячу, сам на погост побежишь! Хошь проверить?!
Мужик выпучился, отвалил губу. Марья грохнула на место «оружие» и твердо, глядя в упор:
– Я жилистая, как мураш! Бери, не пожалеешь!
Начальник крякнул, процедил: «Придурошная» – и подписал: «Принять».
И начались «счастливые» будни.
Работали женщины по двенадцать часов. Разгружали вагоны с зерном. Главное орудие – совковая лопата. Молодки по очереди заползали на карачках в вагон, засыпанный доверху. Начинали грести зерно к выходу. Ладно бы на платформах работали, там ветер обдувал, а здесь погибель: крытый товарняк.
Представьте, мелкая пыль от растертых плевел, сорной травы, полыни. Человек мешок чистой пшеницы пронесет – обчихается, а там ни хрена не видно, плотный пылевой туман легкие забивает, как цементом. Пробовали мокрой тряпкой лицо обвязывать – только хуже.
Начинает первая товарка задыхаться, кровь носом, сознание теряет, за ноги за руки – волокут на воздух… Следующая вползает…
Падают по очереди. Отлеживаются по очереди. Случалось – не откачивали…
«Посменная» работенка…
Одежда на них слипается от пыли и пота, к вечеру встает колом. Не бабы – памятники сами себе!
Маруся с первого дня дала зарок: ходить на работу только в чистом. Хоть как устанет, а робу – в шайку, воды туда, щелоку, перетопчет и сушить. Одну фуфайку выдали, вторая Иванова была, на сменку. Вбила себе в голову: шмотье должно быть выстиранное. Ежели с утра засранное надену – упаду замертво!
Повадились грузчицы после смены напиваться вдрызг. Ухрюкаются и куролесят – все одно пропадать. Кому калека надорванная нужна?! Звали нашу накатить с устатку, та – в отказ. Хоть ползком, обессиленная, но сразу домой.
А дома дети сами командуют. Людочка то лоб расшибла, то ручонку прищемила, то поели, то нет, то Генка спички нашел – сама виновата, не прибрала. Хорошо, подпалить не сумел, сгорели б… Отшлепала озорника, да толку?! Ему четыре, ей два – глупыши…
Маруся вкалывает, а душа болит: как они там?
А вламывала она – будь здоров! За ней особый пригляд был. Начальничек по кадрам табурет хорошо запомнил. Встанет поодаль, скалится шакалом, хитро высморканный, будто ждет, когда Манька околеет. Так и дала бы гаду лопатой по балде.
Бывало, так уморится, так умается, пришкандыбает домой, еле дышит, повалится на пол, уставится в одну точку и ни звука… Лежит покойницей… Чудится ей – вроде в углу кошка ворочается, а кошки-то и нет. Это старая Ванькина шапка под стул завалилась… а как живая.
То примерещилось, будто пол в комнате буграми… Бугры вроде – кочки какие-то волосатые… потом разжижились… запузырились… Пузыри где крупные, где мелкие, прозрачные, розоватые… дуются, лопаются со щелчком… И в глазах резь…