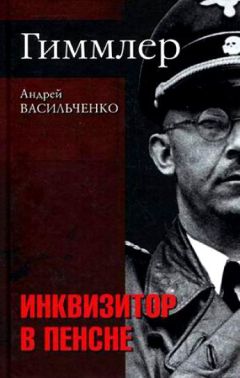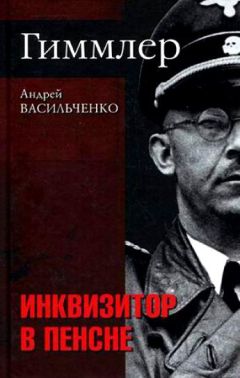— Тэ-э-эк… Значит, что выбирать — неважно, важно не уклоняться от ответственности за выбор? Хоть в эсэсовцы, если только сам выбрал и готов, если придется, к стенке встать без истерики?
— Собственно, тут акцент на другом. Да Сартр, вы же знаете, был активным антифашистом…
— Был. Но из ваших с Сартром теорий не видно, почему бы ему не стать фашистом. А?
Шура, выручая Саломатина, заговорила о том, что и враг может внушать уважение, если он тверд в убеждениях, но зоопсихолог ее прервал:
— Вы, Шура-Саня, добрая. А пусть он сам, без вашей помощи!
— Да, я добрая. Но если вы торт не съедите, я стану злая. Я выкину его в мусоропровод, и его призрак будет являться вам каждую ночь!
На том спор и кончился.
Саломатину нужно было спорить, оттачивать аргументы. Нужно было общаться с единомышленниками. А Где они? Саломатин вспомнил об Андрее Четырине, взял отпуск и слетал в Хабаровск. Но слетал он зря. Андрей за эти годы очень изменился. Он хвастался своей лабораторией, своей якобы не по годам умной дочкой, сманивал Владимира на рыбалку… Об экзистенциализме он и слышать не хотел:
— Ну, брат! Этой оспой я да-авно переболел. Уж и забывать стал. Мура все это. Философия для бездетных. Ты холостой — вот тебе и чудится, что с твоей смертью мир рассыплется. Кстати, у Сартра дети есть, ты не в курсе?
— Никогда не интересовался, — сухо ответил Саломатин.
— Зря. По-моему, нет у него детей. Понимаешь, дети так прочно связывают с жизнью и с другими людьми, что… В общем, женишься — поймешь.
Ну что ж, все было ясно. Дальше разговаривать было незачем.
Потом, в самолете, Саломатин долго и напряженно вспоминал, на кого же стал похож раздобревший Андрей. Ах да — на Вадьку Ломтева! Конечно, на него. Та же поглощенность семьей и производством, приземленность, равнодушие к вечным вопросам, то же «здесь и сейчас» вместо «везде и всегда».
Общаться было не с кем.
Выручил его Валерка. Наскучив традиционными способами ухаживания, он стал поражать воображение девушек тем, что имеет друга-экзистенциалиста. Он потащил Саломатина с собой на одну дачу, где их роли странно перепутались. Валерка рассчитывал, что Саломатин с его самобытной философией будет, так сказать, пряным гарнирчиком к его, Валерки, особе. Вместо этого сам он оказался в жалкой роли официанта, подавшего экзотическое блюдо и более не нужного.
Через Валеркиных девочек Саломатин познакомился с их друзьями, вошел в круг людей, которых экзистенциализм интересовал если и не глубоко, то остро. Вскоре он стал в этом кругу популярен.
Это был именно круг, замкнутый для чужих и открытый для своих. Саломатин быстро освоился и привык к обстановке, окружавшей этих людей. Он мог по нескольким деталям узнавать, попал он к «своим» или нет. У всех его поклонников на стенах висели африканские маски (сочинского производства), прибалтийские керамические пластины со скучным беспредметным рельефом и «кичевые» картинки на стекле с целующимися голубками, слащавыми пейзажами и нэповскими красотками. У всех одна стена в квартире забита до потолка книгами, а на низеньком столике у этой стены небрежно брошено, что-нибудь «запретное», пикантное… Что именно, неважно. Важно, что вот человек мыслит нестандартно, не по указке — и не скрывает этого! А как именно мыслит — это уже его дело.
У всех людей этого круга были дорогие, модные радиолы. И каждый врал, что ночью, если хорошее прохождение воли, запросто ловятся и радио «Люксембург», и все, что хочешь. Ни одна их встреча не проходила без обмена последними новостями: один рассказывает, что вчера передавал «Голос Америки», другая — что Би-би-си, третий — что «Немецкая волна», и так по кругу. Считалось, что самая объективная — японская Эн-эйч-кей, а самая лживая — энтээсовский «Посев».
Шура называла этих фрондирующих интеллектуалов «переростками». Мол, седеют, лысеют, дети у них уже старшеклассники, а сами все еще не вышли из того возраста, в котором, чтобы продемонстрировать независимость от «предков», красят волосы в синий или бордовый цвет, отрезают чудные косы и нашивают заплаты на неизорванную одежду. И, привыкнув, теперь пытаются эпатировать государство. Но, поскольку государство на их фокусы внимания не обращает (или уже, если дело серьезное, не в угол поставит, а похуже!), «переростки» бунтуют в узком кругу и помалкивают в тряпочку на людях. Демонстрируют свою храбрость друг другу. Все это, говорила Шура, здорово похоже на щедринский «бунт» против полицейского: зайти, чтобы никто не видел, в подворотню и в кармане кукиш сложить. Только тут еще смешнее, потому что непонятно, против чего и за что.
Саломатин видел, что Шура права. Но пусть! Пусть они слушают вполуха, пусть им интересно не то, о чем он говорит, а то, что им говоренное не одобряется «вверху», пусть! Все же слушают! И может быть, кто-то и услышит, кого-то проймет.
«Салонный философ»? Дразнись, Шура, дразнись! Чаадаев тоже был «салонный».
Глава 8. ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
Раз на званом ужине у главного инженера облбыта младшая сестра жены хозяина пристала к Саломатину:
— Владимир, объясните мне, серой, почему так: вы очень красиво, увлекательно говорите о свободе, активности, подлинном и неподлинном существовании, а живете так же, как и мы, неподлинно и несвободно? Наверное, перейти от трепа к практике жутковато, а? Или все ваши теории просто для красоты слога?
— Да нет, почему же? Я собственно на данном этапе ставлю целью ознакомить с учением как можно больше людей, а уж потом можно будет и поэкзистировать.
— Потом — это, видимо, после дождичка в четверг?
— Потом — это тогда, когда я найду своевременным! — резко сказал Саломатин. И подумал при этом: «А в самом деле, чего я жду?»
Домой он пошел пешком и самой длинной дорогой, по бульварам улицы Горького. Надо было разобраться в себе. В самом деле, чего он ждет?
Дома он еще раз взялся за пьесу Сартра «Мухи». За то ее место, где Юпитер открывает Оресту единственную великую тайну: что люди свободны. И эти строки вдруг засветились золотом! Прежде Саломатин читал их и перечитывал как отвлеченную — верную, большую, но абстрактную истину. Теперь он их прочитал как руководство к действию.
Довольно! Владимир Саломатин объявляет экзистенциальный праздник! Отныне — да, да не с завтрашнего даже утра, а с сей же секунды! — он живет свободно, не обращая внимания на законы и запреты.
Прежде чем лечь спать, он собрал все галстуки — терпеть не мог этих ошейников, но как преподавателю приходилось их носить — и швырнул в мусорное ведро. Утром в столовой вместо первого и второго («Вам, как всегда, без подлива?») взял четыре порции селедки с луком и три заварных пирожных и съел, радостно косясь на негодующие или перекошенные от тошноты физиономии. Потом, негромко напевая (чего доселе никогда не позволял себе на улице), пошел на красный свет через дорогу. Подскочившему орудовцу лениво сказал: «А пошел ты!» — и тот послушно и беззвучно отошел.
Вместо семинара по теме «Органическое строение капитала. Масса прибыли и норма прибыли» он пошел на пляж и провалялся четыре часа, приставая ко всем
симпатичным девушкам. Потом съел подряд по порции всех сортов мороженого, какие были в киоске, и позвонил Шуре, предложив ей (севшим от мороженого голосом) плюнуть на лекции и зайти к нему побаловаться. Шура не поняла и предложила покушать парацетамольчику. Тогда Саломатин набрал 09, узнал номер и стал дозваниваться в РЭБ флота. И узнал, что начальник цеха Ломтев только что убыл в Хабаровск на бассейновое совещание. Все складывалось как нельзя лучше!
В автобусе брать билет Владимир не стал, и его со скандалом высадили за остановку до нужной ему. Он шел с пылающими щеками, вспоминал, как стыдно было слушать укоры контролерши, и злился на себя. Подумаешь, засмущался! Плевать на все, ты же свободная личность, осуществляющая себя наперекор абсурду. Тебе не должно быть стыдно!
Но ему все же было стыдно. Саломатин уважительно вспомнил, как стойко вел себя под ливнем насмешек старик Тулупский. Вот из кого вышел бы настоящий экзистенциалист! А может он им и был? Стихийным экзистенциалистом? Может, это и давало ему силу сносить насмешки и презрение?
Лариса была дома одна. Она пополнела, но была красива. Пожалуй, даже красивее чем прежде. Она говорила что-то необязательное, но Владимир, только услышав, что ни детей нет дома, ни свекрови, накинулся на нее и стал целовать, стягивая халатик. Она сопротивлялась, но слабее, чем он ожидал. Потом совсем перестала и только шептала: «Где ж ты был раньше, дуралей?»
Потом он спросил, почему она тогда его бросила. Лариса вдруг отодвинулась, села, начала торопливо одеваться и сказала:
— Так и остался ты, Вовик, мальчишкой. Я ждала, ждала, когда же ты повзрослеешь, — вышла за Вадика, а все равно ждала. А ты…