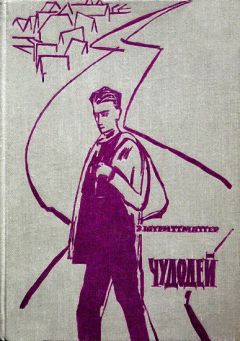Чувство разочарования настолько поглотило Станислауса, что он не заметил Маршнера, который открыл тумбочку Али, вытащил оттуда пистолет и спрятал его у себя.
Али снова привели на допрос. Он подтвердил свою невиновность. Ему не поверили, пытались сбить с толку перекрестным допросом и так долго терзали и мучили, пока этот огромный детина не расплакался, как ребенок.
— Ты спятил, что ли? Ростом в два метра, а размяк, точно баба!
Гневный окрик офицера юстиции хлестнул, как удар бича. Али подтянулся, побледнел и умолк. Слезы, казалось, замерзли на его щеках.
В армейском священнике дрогнула та частица его души, которую еще не проело насквозь пруссачество. Он попросил приостановить слушание дела. Он просил, кроме того, принести кобуру Али и просил также узнать у Али, где могло находиться его оружие, когда тот набивал кобуру семечками. Разумеется, он, священник, не может поклясться, что видел в руках у Али пистолет. Может быть, Али сунул его в кобуру, когда среди польских крестьян началась паника, а может быть, у него и вовсе не было пистолета и он хотел только припугнуть их.
Просьба священника была принята во внимание. Кобуру Али доставили в суд. В ней лежал пистолет. Да, дело обстояло именно так. Маршнер, получив от армейского священника, от его преподобия, приказ следить за Али, безопасности ради прежде всего разоружил его.
Али как-то не обратил внимания на все эти разговоры. Он сидел в своем карцере и курил сигары, которые ему сунул в коридоре Роллинг. Сигары раздразнили голодный желудок Али. Он чувствовал себя таким несчастным, что готов был умереть тут же на месте. Если когда-нибудь ему станет лучше, он в жизни не притронется к куреву. Бедный, простодушный Али!
11
Станислауса венчает убийца; Станислаус празднует свою свадьбу весьма необычным образом в глинистом карьере.
Наступил день свадьбы Станислауса. Он стоял в мундире, стальной шлем был туго затянут под подбородком, поясной ремень и сапоги начищены до блеска, руки вытянуты по швам. Его знобило, но он себе в этом не признавался. Да и что могло бы его согреть? Уж не швы ли форменных брюк, сшитых в Германии разнесчастной вдовой-надомницей?
Станислаусу разъяснили, какая ему оказана честь: его будет венчать офицер юстиции батальона. Офицер прибыл в роту по делам и не погнушался самолично провести первое заочное обручение.
На стене висело красное знамя. Оно было широко развернуто, и каждый мог отчетливо видеть черную свастику, которая прогрызла белую дыру в красном полотнище. Стол в ротной канцелярии был обтянут плотной белой бумагой, на нем даже стояла ваза с ветками серебристо-голубой ели. Столько торжественности — и все для Станислауса!
Может, Станислаус навеки отказался бы от обручения, знай он, что знамя с паучьими щупальцами, белая плотная бумага и ветви серебристой ели поставлены вовсе не для него. Всю эту декорацию тщательно подготовили, чтобы вынести в торжественной обстановке приговор Али.
«Немецкому солдату, посланцу фюрера, освободителю человечества запрещается мародерствовать в чужой стране. Ему запрещается по собственному почину заниматься реквизицией в ущерб общественному достоянию…»
Если бы Станислауса не одолели мысли о кудрявой Лилиан, оставшейся в Германии, он бы почувствовал, как дрожат еще половицы, на которых стоял Али, когда ему зачитывали приговор.
Писарь-ефрейтор посмотрел на ручные часы.
— Из бюро по регистрации браков с места твоего жительства сообщили, что у них твое обручение состоится в десять часов тридцать минут. Через пять минут я приглашу господина офицера юстиции. Поправь пряжку, она съехала в сторону!
Станислаус вернул пряжку на место и снова вытянул руки по швам, словно и он ждал своего приговора.
Совесть погнала армейского священника в ту деревушку, где Али, согласно показаниям духовного лица, совершил столь тяжкое преступление. Мягко, с той долей доверия, которая, как ему казалось, подобала его сану, священник говорил с крестьянами. Он выяснил: да, Али заплатил за сало. Да, теми же деньгами, какими священник платил за свое масло. Нет, пистолета в руках у Али никто не видел, однако кто знает… Во всяком случае, Али возился с замком кобуры.
Священник отправился в обратный путь. Хоть в глубине души он и сомневался, чтобы прусский военно-полевой суд посчитался со свидетельскими показаниями польских крестьян, все же он сделает попытку. Совесть его, во всяком случае, была неспокойна.
Станислаус, пошатываясь, вышел из канцелярии. От долгого стояния навытяжку у него свело мышцы. Офицеры разглядывали его. Он не слышал речи офицера юстиции, обильно сдобренной специфическими нацистскими словечками. Вокруг толпились офицеры, их пригласили в качестве свидетелей — после осуждения Али им необходимо было отдохнуть душой, глядя на умиротворенное лицо Станислауса, и получить подтверждение тому, что жизнь, вопреки всем несчастьям, твердо и неуклонно движется вперед, соединяет людей и добивается от этого союза потомства. На смену добровольно убитым.
Станислаус своим скучным лицом, пожалуй, не улучшил настроения господ офицеров. Он не улыбнулся в ответ, когда высокие господа снизошли до того, что чокнулись за процветание молодоженов. Сам Станислаус не получил бокала и не участвовал в этой незадачливой выпивке.
Он брел, пошатываясь, по длинному коридору. Наружные откосы окон покрывал толстый слой снега. По оголенным жердочкам, когда-то обвитым диким виноградом, прыгали воробьи. Станислаус с благодарностью взглянул на сереньких птичек. Они и здесь такие же, как на его родине.
Властный голос вахмистра Цаудерера заглушил воробьиное чириканье. Станислаус обогнул угол казармы, там собрались солдаты из комнаты № 18. Они стояли с винтовкой к ноге, стальные каски затеняли их лица. Станислаус оторопел. Как ему держать себя, если товарищи и Цаудерер вздумают его чествовать? В этой женитьбе никакой его заслуги нет.
Но комната № 18 не чествовала Станислауса.
— Бюднер, взять винтовку, живо! — прикрикнул на него вахмистр.
Станислаус побежал. Это было ему куда приятнее чествования. Вместе с другими он пойдет в караул, и там у него хватит времени думать о Лилиан.
Они выехали из казармы на грузовике. Впереди гудела маленькая автомашина с зарешеченными окнами — почтовый автомобиль, выкрашенный в зеленый цвет.
Роллинг наморщил лоб и показал рукой на зеленый автомобиль.
— Это едет Али.
— Куда?
— В штаб полка. Они там снова будут тянуть из него жилы. Нам приказано стрелять, если при выгрузке он окажет сопротивление. Черт возьми!
Их привезли к глинистому карьеру где-то за городом. Там уже стояли в ожидании офицеры. Офицер юстиции, полчаса назад венчавший Станислауса, курил черную сигару. Некоторые из офицеров выглядели подвыпившими. Они вели разговор о лошадях. Может быть, своей громкой болтовней им хотелось заглушить какой-то голос внутри себя.
В глинистом карьере высился столб в рост человека, столб пыток, каким его описывают в книгах об индейцах. Роллинг схватил Станислауса за руку. Рука Роллинга была холодна, как у покойника, и этот холод передался Станислаусу.
Открыли дверцу маленького почтового автомобиля. Два человека из другой роты вытолкнули из машины связанного Али. Он улыбался и тяжело дышал. Люди повели его вниз, на дно ямы. Али узнал своих товарищей по роте и снова заулыбался. Ему развязали руки, и он усердно замахал ими, как птица крыльями после долгого пребывания взаперти; при этом он с благодарностью смотрел на солдат, освободивших его от веревок. Вахмистр Цаудерер приказал:
— Всем из комнаты восемнадцать выйти вперед!
С мрачными лицами солдаты выстроились в ряд. Каждый из них теперь уже знал, что должно произойти.
Али привязали к столбу, он поник головой. Этот парень, как ребенок, жил только настоящим моментом. Солдаты из комнаты № 18 царапали сапогами глину. По лицу Али текли крупные детские слезы. Потом послышались глубокие всхлипывания. Солдаты из комнаты № 18, словно по команде, еще глубже втянули головы в плечи. Казалось, они сами хотят зарыться в глину. Каптенармус Маршнер что-то шепнул лейтенанту Цертлингу.
Следовало бы подождать. Отсутствовал армейский священник. Он уехал в деревню. На поиски выслали гонцов. Они еще не вернулись.
И тут свершилось — раздался выстрел. Выстрелила винтовка Роллинга, и Роллинг упал плашмя, словно сраженный этим выстрелом. Станислаус бросился к нему.
— Унеси меня, живей! — прохрипел Роллинг.
Вонниг и Станислаус вынесли Роллинга из карьера.
Офицеры, жестикулируя, о чем-то заспорили между собой. Вызвали вахмистра Цаудерера. У края карьера стоял маленький зеленый автомобиль. Его дверцы были раскрыты. Роллинг, не открывая глаз, скомандовал: